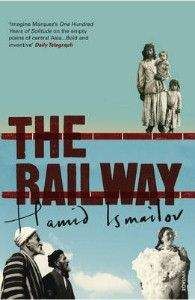Затем Шакен-коке, который будет поджидать их на расстоянии крика, завидев лисицу, выскочит сбоку и резко развернет погоню в сторону от солнца, то есть даст лисе «калтарыс» — поворот на 90 градусов. Затем его сменит Кепек, который, завидев лису, тоже выскочит на коне со стороны и развернет погоню еще на 90 градусов, так, что солнце будет теперь светить прямо в глаза хитрой лисице. Тем временем дед, Петко и музбалак с гиканьем и воплями выйдут на этот раз не сбоку, а навстречу, лицом к лицу, и… Ержан с уважением посмотрел на двустволку деда.
Все произошло, как и распланировал дед. Капты с ворчанием выковырял лисицу из норы, она бросилась было в сторону солнца, но дед заулюлюкал так, что лисица на мгновение застыла, потом, сообразив, бросилась мимо Капты в обратную сторону и гон начался. Капты летел во всю прыть, не успевая гавкать, зато дед улюлюкал на всю степь. Привязанный поясом, Ержан сидел за его широкой спиной, а то уж точно бы оглох. Петко тоже сверещал на чужом, взятом напрокат коне. Так продолжалось минут пять, пока дед не одернул своего коня, и теперь Ержан не только услышал, но и увидел, как Шакен-коке дал лисе тот самый «калтарыс» — разворот, и та понеслась вбок от них. Растерянный Капты на мгновение было остановился, но дед гаркнул: «Бас!» — «Дави!» — и пес, гавкнув наконец во всю грудь, рванул в новом направлении.
Маленькими точками пересеклись Шакен-коке и Кепек-нагаши — и тут же исчезли из беркутьих глаз мальчика: дед развернул коня в направлении от солнца. Зато шум погони стал приближаться и нарастать. «Ата, корейши! Ата, корейши!» — «Дед, дай глянуть!» — что было сил закричал Ержан, и тогда дед каким-то неуловимым движением, не снимая пояса, развернул его, усадил прямо перед собой и слегка дернул уздечку, чтобы конь склонил голову набок, открывая Ержану вид на степь. Так, наверное, он обращался со своим беркутом, — не без гордости за деда подумал Ержан.
Лисы в степи он не видел, но видел скачущего с гиком и улюлюканьем Кепека-нагаши, а потом чуть впереди заметил и выцветший клубок Капты. Ближе, еще ближе, еще ближе, и вдруг Ержан углядел пыльную точку, несущуюся в их сторону: «Ата, ата, керши!» — «Дед, смотри!» — сердце его затрепыхало между азартом и жалостью, сейчас дед достанет ружье, привязанное между путлищем и подпругой, и… Но дед застыл на мгновенье и вдруг, хлестнув коня, с оглушительным гиком и улюлюканьем, которые слились с улюлюканьем и гиком и Петко, и Кепека, бросился прямиком навстречу лисе. Сейчас она в страхе бросится прямо на нас, думал испуганный музбалак, но вдруг лиса, запутавшаяся в открытой степи, свалилась и покатилась кубарем под напором собственной скорости. И прежде, чем Капта перегрыз ей горло, дед на лету набросил на нее сеть, да так умело и точно, что лиса, обернув ее вокруг себя два раза, застыла калачиком.
Так они поймали ту лисицу живьем, Ержан видел ее побежденные глаза, полные отчаяния и тоски. Но Петко сказал деду что-то умное, вроде того, что цель — не цель, а дорога к этой цели, — и дед согласился с гостем: отогнав Капты с Кепеком и махнув рукой от досады, отпустил растерянную лисицу обратно в степь.
* * *
Зато вдруг прискакал выпавший на это время из погони Шакен-коке. У него было что-то за пазухой. И он торжествующе вытащил лисенка, так же, как его мать, запутавшегося в сети: вот, будет теперь котенок Айсулу и Ержану! Ержан хоть и перехватил укоризненный взгляд Петко, но, подумав, как обрадуется живому лисенку Айсулу, сделал вид, что ничего не заметил.
Потом дома, когда дед зарезал-таки в честь гостя барана и, освежевав его, приготовил и голову, и бесбармак, и ишек-шабак, после обильного ужина он взял в руки свою домбру и, запев гостевой жыр, стал пояснять Петко, что и здесь, как и на лисьей охоте, за «калтарысом» идет «калтарыс», вплоть до последнего «улуу калтарыса», когда и слушатель, как лиса, попадает в силки жырау:
Друзья сильны,
Враг унижен,
Когда исполнятся желанья.
Неизмеримое счастье,
Золотой престол, —
Там, в мире теней.
Оставит печаль,
Появится само по себе Все, что душе угодно.
Где это все?
И какая в том польза? —
Коль не сможете унести с собой и волоса.
«Калтарыс», — вставлял здесь дед и продолжал:
Мир хитер,
Как поток воды,
Мы упали в него соломинками.
Несет нас день за днем,
И мы качаемся,
Умножая свои труды и муки.
Где о камень,
Где о куст
Бьемся.
И от воды,
И от гула
Спасемся, только сойдя на нет.
«Калтарыс!», — восклицал дед и махал рукой Петко,
Мир течет,
Шелестит,
Вливается в вечное озеро.
Одна — рано,
Другая — позже,
Соломинки собираются вместе.
Достигнув озера,
Остановившись,
Все там находят свой покой.
«Улуу калтарыс!», — рычал дед и внезапно притихшим голосом допевал:
Успокоившись,
Умиротворившись,
Поток воды затихает в затоне…
Пока они пели эти песни, лисенок, принесший столько радости Айсулу, незаметно выскользнул из их дома, и его тут же загрыз Капты. Сколько было слез и крика, пока Кепек закапывал маленькое, с котенка, пушистое тело. С тех пор каждую ночь Ержан слышал какой-то вой — и догадывался, что это не Айсулу плачет по лисенку, а отпущенная в степь мать-лисица приходит к их двору, чтобы выпросить обратно своего детеныша. И Капты при этом начинал не лаять, а скулить, как перед атомным взрывом…
Той осенью по настоянью городской женге Байчичек, Шакен-коке купил в городе радиолу, и настоящее окно в мир открылось для всего двухсемейного населения Кара-Шагана. Вот это была радиола так радиола! — не чета дедовской охрипшей и осипшей «Стреле». По утрам Шакен-коке врубал на весь полустанок утреннюю зарядку с преподавателем Гордеевым и пианистом Потаповым. Потом наступал черед деда Даулета слушать вместе с Шакеном гимн Советского Союза и «Последние известия», вслед за чем Шакен повторял свое неизменное: «Мы не только догоним, но и обгоним Америку!» Затем, когда дед уходил на свои пути, женщины слушали всякую местную чепуху и радиопостановки по второй казахстанской программе. Когда женщины уходили доить коров или же за хворостом в степь, да если еще Шакен-коке был на вахте, к радиоле приникал Кепек-нагаши и, втыкая в радиолу всякие провода, вылавливал какую-то бесноватую музыку, под которую он трясся и без выпивки.
Что же до детей, Ержану добрый Петко дал как-то две долгоиграющие пластинки, одну под названием «Лендик кофам»[6], а вторую под непонятным именем «Динрит». Эти две пластинки они крутили бесконечно, пока не приходили взрослые и не отправляли детей спать. На одной играла скрипка, да так красиво, будто Петко решил больше не отвлекаться на замечания Ержану, а просто играть. На другой звучало что-то вроде песен, которые ловил Кепек-нагаши, но и в них была все та же чистота и необыкновенная радость. «Хайуан акеле, хайуан акеле, хайуан акеле…»[7] — пел, засыпая у себя дома, Ержан, а в соседнем доме ему вторила незасыпающая Айсулу: «Улу акем баласеней, улу акем баласеней!»[8]
* * *
Тому, кто не жил в степи, трудно понять, как можно существовать среди этой пустоты на все девять сторон. Но те, кто живет здесь веками, знают, как изменчива и богата степь, как текуче и разноцветно небо над ней, как переменчив и подвижен воздух вокруг, как разнообразна и неисчислима степная растительность, как много кругом всякой живности и зверья. То пыльная буря возьмется ниоткуда, то желтый смерч завертит воздух издалека, как женщины вертят в веревки верблюжью шерсть, то огромное и тяжелое небо нависнет всем своим весом над притихшей и покорной землей…
Взрослея, Ержан стал все чаще присматриваться к дороге, по которой они ехали к Петко, и эта дорога казалась ему музыкой, такой же плавной и разнозвучной. На кустиках жузгуна и солянки качались ноты ветра, землеройки и суслики подпевали вторыми и третьими голосами.
Дома суровое и морщинистое лицо деда казалось ему скрипичным концертом Баха, который он только начал разучивать; надоедливая бодрость Шакена-коке — «Венским маршем» Крейслера, за который они решили и вовсе не браться; бестолковые действия Кепека — этюдами Гавинье, а розовощекое личико его Айсулу — почему-то «Зимой» Вивальди, которую с упоением играл посреди позднего казахского лета болгарин Петко.
Только вот женщины, включая и городскую женге Байчичек, все еще ассоциировались у него с однообразными звуками старинной домбры…
* * *
Радость степи, радость музыки, радость детства… На фоне этих безоблачных мотивов почти всегда — то едва слышно, то вдруг, непонятно с чего выступая на первый план, звучала и другая мелодия: ожидание чего-то неминуемого, страшного, безобразного. Это приходило гулом, дрожью, а то и ураганом из Зоны. Шакен-коке, как правило, бывал в это время на вахте, но в тех редких случаях, когда он оказывался дома, дед, Шакен и Кепек, запертые в одной из семей на несколько дней, бесконечно спорили между собой. Шакен, на которого была возложена роль ответчика за все, загорался, как сама степь во время взрыва, и поучал остальных: дескать, мало того, что атомная бомба — это наш, советский ответ на гонку вооружений, но взрывы нужны и для мирных целей, чтобы строить коммунизм! «Мы обязательно должны не только догнать, но и обогнать американцев! На случай третьей мировой войны!» — завершал он пламенную речь своей коронной фразой. «Ты не читай нам агитацию!» — горячился дед, отвоевавший две мировые войны — первую в окопах на тыловых работах, а вторую — дойдя пешком до Эльбы, где он братался с американцами. «Нет на свете ничего, из-за чего стоило бы воевать! Я понимаю — железная дорога: и людей возит, и товары — всем польза! А какая польза от твоего атома-патома?! Всю степь сделали нежилой! Ни песчанки, ни лисы уже не встретишь!»