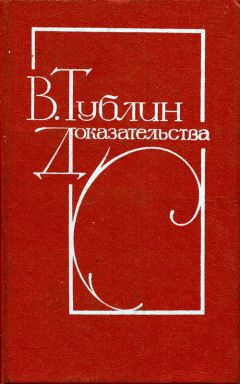Длинными худыми пальцами она провела по его лицу. Что-то царапнуло его, он вздрогнул, но цепкие пальцы держали крепко, и вся она дрожала: озноб или что иное — непонятно. Странный сладковатый дурманящий туман окутал их; где они, что делают — все стало безразличным, неважным. Ее голова все сильнее прижималась к его плечу, словно там — от чего? — искала она безопасности, пока наконец не соскользнула ему на грудь. Он положил ей под щеку ладонь — и замер. Время от времени он наклонялся и целовал едва белевшее в надвинувшихся благодатных сумерках маленькое пятнышко за ухом — и тогда он слышал торопливый шепот, прерываемый частыми и глубокими вздохами. Так он услышал исповедь прошедшей жизни — хотя едва ли не половину сказанного он попросту не расслышал.
Нет, она не жаловалась на прошедшие годы, и причин для жалоб у нее не было. Она и замуж вышла по любви, и тогда, и потом все было как она хотела, — только она-то не знала, чего ей хочется. Может быть, сейчас она несколько иначе могла бы оценить то, что тогда сочла за любовь, — но тогда, тогда она представляла ее именно такой, и только такой — с первого взгляда. Нет, нет, ей и в самом деле достался самый лучший из всех возможных вариантов, ее муж — прекрасный человек, ни одного слова, бросающего на него тень, не могла бы она найти. Для него, ее мужа, в мире существуют лишь два божества — наука и она; до сих пор он готов носить ее на руках, любое ее желание — закон, другие женщины для него просто не существуют; научная карьера, звания и степени нужны ему тоже исключительно для нее — так он говорит. Все время, свободное от работы, он проводит только с женой… он не пьет, он красив и здоров, настоящий мужчина, альпинист и лыжник, и тут кругом выходило, что если есть на свете человек, в котором собраны все мыслимые добродетели, то это и есть ее муж.
Тут вздохи стали еще глубже, на ладонь, положенную под щеку, капнуло что-то теплое, и вздохи перешли в рыдания, уже не сдерживаемые ничем. «…Я гибну, Робин, я гибну… такая жизнь… она лишает сил… и воли… это как ласковое болото, оно заманивает… и засасывает тебя и… я… пропадаю».
Бессвязные, горькие слова. Облетевшими листьями они опустились у их ног. Поцелуй был долог, горяч и неумел. Что-то давно забытое дрогнуло у Сычева внутри, дрогнуло, обмякло и поплыло. Мысли остановились, все остановилось.
— Пошли, — сказал Сычев хриплым, сдавленным голосом и, встав, потянул безвольно подчинившуюся и не перестававшую дрожать Елену Николаевну за собой. Делал он все это так, словно внутрь к нему вселился совершенно чужой и незнакомый ему человек, которому он отдал свое тело как бы в аренду и который распоряжался этим телом безжалостно и твердо. Следующие пятнадцать минут они шли молча, Сычев чуть впереди, Елена Николаевна — за ним, молчаливо и покорно; так пересекли они проспект, оставили справа минарет татарской мечети, длинной и кривой улицей вышли к трамвайному парку, где уже устраивались на ночь огромные туши вагонов, затем свернули налево. Сычев шел, как сомнамбула. Он даже не задумывался, что он делает, ибо тот, кто сидел сейчас внутри него, был убежден, что все делается единственно правильным и возможным путем. Плечом к плечу поднялись они по узкой темной лестнице, минуя этажи; один, второй, третий… пятый, шестой. Выше седьмого этажа, на чердаке, была мастерская художников. Сычев протянул руку и в едва заметном углублении стены нащупал ключ.
Они вошли в кромешную тьму, и не успела дверь закрыться за ними, как с жадностью, трепетно и бесстыдно они припали друг к другу.
Итак, свершилось. Ибо здесь закончился путь, который начат был этими двумя людьми независимо друг от друга в разных точках огромного города и с разными целями — и такой вот была конечная точка этого странного движения. Что же, значит, так и должно было случиться, так и было им назначено и предопределено — или предположение такого рода есть лишь попытка снять с себя ответственность и переложить ее на плечи так называемой судьбы? Но, может быть, предопределение находится в нас самих, невидимое до поры до времени, как невидимо зарытое в землю зерно?
От этих разговоров о предопределении попахивает метафизикой; так всегда происходит, когда человек чего-либо не в силах понять. Но разве не следует и в самом деле попытаться понять — если не этим двоим, то нам, — как, каким путем, каким образом попали они, еще утром сегодняшнего дня и не вспоминавшие друг о друге мужчина и женщина, в темное и таинственное помещение высоко над спящим городом? Или тропа добродетели и впрямь столь узка, что на ней не разойтись двоим, встретившимся внезапно и не успевшим из-за этой внезапности принять мер предосторожности и самозащиты? Как бы там ни было, перед ее глазами — сложное пересечение уходящих вверх плоскостей чердачной крыши, серебристое мерцание и рядом — чуть выделяющееся из темноты распростертое тело; от него, незнакомого ей и вместе с тем знакомого до мельчайших подробностей, исходит тихое благодарное тепло. Ей кажется, что крик, который сорвался с ее губ несколько минут тому назад, еще бьется о пересеченные плоскости потолка, словно ночная бабочка невиданной доселе расцветки. Она видит и чувствует многокрасочность странного невесомого мира внутри себя и прислушивается к нему, испытывая при этом одновременно и ужас, и захватывающий душу восторг.
До размышлений ли было ей? Она уже ничего не хотела от этой жизни: в приходно-расходной книге была заполнена последняя страница и поставлена последняя точка. Эту старую книгу, книгу ее прежней жизни, надлежало захлопнуть и отправить в архив. Отныне ей следовало вести отсчет заново, от этого дня и от этого часа, ибо это было преддверием ожидавшего ее и еще неведомого ей будущего.
Ну а он? В этот миг ей было даже не до того, но позже, когда волны улеглись, из пучин неведения вынырнул он, не имевший теперь перед лицом закрытой книги прошлого ни имени, ни звания — ничего; но и нужды в дополнительных обозначениях не было тоже. И вообще ни в чем не было нужды, потому что здесь, в самой середине простирающейся во все стороны Вселенной, наконец-то встретились двое, уже много лет погибавшие от жажды и обнаружившие — когда все уже, казалось, было потеряно, — что они в состоянии утолить жажду друг друга. И только потом, когда и луна, устав и скрывшись за фиолетовыми тучами, лишила их даже слабого своего мерцания, заменявшего им свет, когда, припадая друг к другу с неожиданно острой и болезненной радостью обретения, утолили они небывалую жажду и, обессилев, лежали, разметав руки, тогда мало-помалу стали они возвращаться из обретенной ими обетованной страны, и на смену убивавшей их жажде пришел голод, — только тогда в тишине раздались голоса и смех. Это раскрывалась перед ними чистая страница, в начале которой их имена были, пусть даже случайно, поставлены рядом. Они не изменяли здесь своему прошлому. Прошлому здесь попросту не было места. И сами они были иные, чем в прошлом, — и вот эти-то иные и смеялись…
Ну и голодны они были! К счастью, в мастерской нашлись продукты, вряд ли рассчитанные на их появление, но оказавшиеся как нельзя более кстати. «Шлеп, шлеп, шлеп», — это Елена Николаевна, шлепая босыми ногами по доскам, производила спасательные работы. В конце этих работ они подбили итог, оказавшийся столь же обильным, сколь неожиданным и разнообразным: треть бутылки перцовки, граненый стакан шартреза, хлеб был черствый, изюм в кулечке, маслины, две сардины на обломленном блюдце, банка мясных консервов, совершенно целая куриная нога, два засохших пирожка с повидлом, два соленых помидора, банан. Мандариновый джем, банка кальмаров и, наконец, семь картофелин в мундире.
Они накинулись на это и смели все, как тайфун на побережье Карибского моря сметает утлые хижины бедняков. Им было стыдно, но они ничего не могли с собою поделать и остановились лишь тогда, когда последняя из семи картофелин была честно и по-братски поделена между ними. Тогда они стряхнули крошки на пол, чинно прилегли один возле другого и, окутанные облаком дыма, умиротворенно замерли, смутно подозревая, что долго еще будут вспоминать эти минуты как самые лучшие в своей жизни.
А затем они еще раз говорили друг другу о самих себе. Они делали это так, словно один из них был в то же время и другим, — так оно и было, иной разговор был невозможен и немыслим. То была странно звучавшая исповедь, исполнявшаяся в два голоса, она заполняла разрыв между прошлым, книга о котором была закончена и закрыта, и будущим, первую страницу которого они начинали, и заполнить этот разрыв можно было только чистым, без примеси, материалом. Это была исповедь, не предназначенная для посторонних ушей, здесь звучали признания, которые были бы почти святотатственны, если б не произносились на языке любви. И эти признания навсегда умерли там, в темной комнате с нависающим черным переплетением потолочных плоскостей.