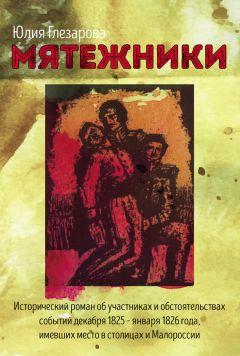Вошел император Николай — прямой, с желтовато-бледным неподвижным лицом и светлыми глазами навыкате. Левашов тотчас куда-то исчез.
Николай уже пять недель сам допрашивал арестованных, и эти допросы были для него не только делом, но и развлечением. Он с интересом, как заботливая хозяйка, входил во все мелочи, расспрашивал арестованных об их семейных обстоятельствах и сам распоряжался, кого и как содержать в крепости.
Николай прошелся по залу, как бы приготовляясь к какому-то представлению. Потом вдруг подступил вплотную к Сергею и взмахнул рукой, как на сцене актер.
— Как вы… — выкрикнул он, но вдруг заметил, что Сергей едва стоит на ногах, — Садитесь! — сказал он, показывая па кресло, и тотчас продолжал: — Как вы, Муравьев, человек просвещенный, могли хоть на одну секунду до того забыться чтоб считать сбыточным ваше намерение, а не тем, что есть, — преступным, злодейским сумасбродством?
Сергей поднял голову, как в детстве перед Наполеоном и хотел что-то ответить — достойное, благородное, как подобает воину, стоящему перед лицом победителя. В глазах его заблистал какой-то огонь, но тотчас потух.
Он отчего-то припомнил вдруг перекошенное лицо Павла Шурмы с ввалившимися щеками и торчащими скулами и печально поник головой.
Николай решил, что его речь произвела должный эффект и что преступник раскаивается. Лицо императора приняло чувствительное выражение. Он говорил о том, что он помнит Сергея еще в Семеновском полку и что ему тяжело видеть своего старого товарища в таком горестном положении, и увещевал его ничего не скрывать и не усугублять своей вины упорством.
Появился генерал Левашов. Начался допрос. Сергей отвечал искренним тоном. Он все рассказал о себе, обвинял одного себя, а относительно других, не показывая никакого вида, что он их хочет выгородить, старался сообщать сведения, которые могли послужить им на пользу. Он целиком оправдывал солдат, утверждая, что он обманул их и что они слепо шли за ним, доверяя ему, как своему командиру. Наперекор истине, он даже сказал, что солдаты сами задержали его и привели к командиру гусарского эскадрона.
Когда допрос кончился, Николай и Левашов принуждены были поднять его с кресла и вести под руки.
Сергея тотчас отвезли в крепость, надев на него оковы.
А Николай после его ухода сказал Левашову:
— Закоренелый злодей!
Перед следственной комиссией, назначенной императором Николаем, была поставлена определенная цель: представить все дело заговором ничтожной кучки «злодеев». Для этого из числа привлеченных — их было больше пятисот — выделили сто двадцать человек, которые должны были подвергнуться гласному наказанию. Прочих велено было «оставить без внимания».
Кроме того, постарались прикрыть истинные цели тайного общества. О затеваемых преобразованиях при следствии распространялись мало. Об освобождении крестьян и облегчении солдатской службы не упоминалось вовсе. Главные обвинения которые предъявлялись подсудимым, сводились к умыслам цареубийства.
От подсудимых всякими средствами добивались «чистосердечных» показаний. Действовали и лаской и угрозами Запугивали возможностью пытки и вместе с тем намекали на то, что все будет прощено и что государю нужны только доказательства полного раскаяния. Подсудимые — ослабевшие в заключении, потрясенные крушением всех своих замыслов — были бессильны противиться ухищрениям следователей. Некоторые из них стали выдавать друг друга, и это вызвало взаимное озлобление. Генерал Чернышев, который вел допросы, с торжествующей улыбкой смотрел на то, как на очных ставках бывшие революционеры уличали друг друга в преступных намерениях, вытаскивая из памяти случайные разговоры, происходившие когда-либо на протяжении многих лет.
Однако большинство выказало настоящее гражданское мужество и не поддалось ни на угрозы, ни на чувствительные увещания.
Ничего не пожелал отвечать Якушкин. При первом же допросе, прямо глядя в лицо императору, он заявил, что, вступив в общество, он дал честное слово молчать и слову своему не изменит. Император был взбешен.
— Подите вы прочь с вашим мерзким честным словом! — крикнул он. И затем, отступив на три шага, приказал: — Заковать его так, чтобы он пошевелиться не мог!
Благородно и мужественно вел себя Никита Муравьев. Матвей и Бестужев думали только о том, чтобы спасти Сергея. Сергей, в свою очередь, старался снять вину с Бестужева и совершенно выгородить брата. Сам он не скрывал своих поступков и мнений и опровергал только то, что могло повредить другим.
Сергею предъявили показание Артамона. Артамон показал, что Матвею было поручено набрать в Петербурге людей, готовых убить государя, и что будто бы Сергей говорил: «У многих не дрогнет рука, их в Петербурге довольно — брат Матвей найдет кого надобно».
Сергей грустно улыбнулся, прочтя этот вздор. Однако показание было опасно и для брата и для северных членов. Сергей написал: «Долг велит мне объявить совершенно ложным сие показание, которое должно навлечь подозрение на петербургских членов, в сем случае невинных». И добавил: «Все те, кои меня знают, скажут, что я не имел привычки употреблять выражения подобные: не дрогнет рука».
Пестель видел, какое направление желают придать следствию: хотят преуменьшить значение тайного общества, извратить его намерения и выставить их в ничтожном виде. В показании, данном в Тульчине, он отозвался относительно тайного общества полным неведением. Потом, когда ему стало ясно, что дальнейшее запирательство бесполезно, он принял другой способ действий. Никого не уличая и стараясь держаться в пределах установленного следствием, он шаг за шагом восстанавливал в своих показаниях истинную картину всего развития тайного общества в целом и разъяснял подлинный смысл его стремлений. Он делал это в напрасной надежде внушить новому царю уважение к идеям, какими руководствовалось общество в своей деятельности, и побудить его отнестись с большим вниманием к тому, что он считал требованиями века. Вместе с тем он писал свои показания как беспристрастный историк. Десять лет тайного общества были его жизнью. И теперь, когда он был заперт в сыром каземате Петропавловской крепости, для него оставалось одно утешение — оглядывать пройденный за десять лет путь и подвергать строгому суду мысли все то, что совершено за эти годы.
Ему предложен был вопрос: «Каким образом революционные мысли и правила укоренялись в умах и кто внушал и распространял оные в государстве?»
Он отвечал:
«Происшествия 1812, 1813, 1814 и 1815 годов, равно как предшествующих и последующих лет, показали столько престолов низверженных, столько других установленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями их производить. К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же. от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и вся Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать. Вот причины, полагаю я, которые породили революционные мысли и правила и укоренили оные в умах. Что же касается до распространения духа преобразования по государству, то нельзя приписать сие нашему обществу, ибо оно слишком еще было малочисленно, дабы какое-нибудь иметь общее влияние, но приписать должно общим вышеизложенным причинам, действовавшим на прочие умы, точно так же как и на умы членов общества».
Следователи и царь с негодованием читали все эти рассуждения, в которых видели только хитрую уловку преступника: вместо того чтобы каяться и молить о прощении, этот «злодей» пытается привлечь к ответственности, вместе с собой, все человечество, все страны от Турции до Америки.
Против Пестеля не находилось прямых обвинений: он не участвовал ни в мятеже 14 декабря, ни в восстании Черниговского полка. На допросах он держался холодно и вежливо, отвечал с достоинством. Придраться было не к чему: это-то и злило больше всего.
Однако было ясно, что Пестель голова всему делу. В следователях он возбуждал личную ненависть. Когда он стоял перед ними, небритый, закованный, — в его взгляде, голосе, во всей его позе они чувствовали внутреннее сознание своего превосходства и читали презрение к себе. Генерала Чернышева это выводило из себя. Когда Пестель вдавался в подробные объяснения, Чернышев его перебивал и однажды, не стерпев, закричал:
— Будьте добры замолчать! Не извольте читать нам лекций!