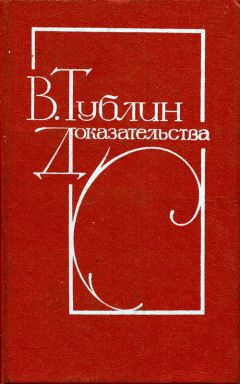Ибо одно дело — красоваться на пьедестале почета с букетом в руках под гром оркестра и рукоплескания друзей, и совсем иное — вернувшись домой, лежать в темноте и под мерцающее жужжание в ушах то засыпать, то просыпаться, представляя себе возвращение на работу в Иоанновский равелин в качестве руководителя транспортной группы, соизволением хмурого начальства отпущенного на соревнования без сохранения содержания. Но более всего угнетала нашего героя — потому что, даже лежа в постели, он еще был таковым — мысль о необходимости и неизбежности нового разговора, а точнее — новых разговоров с начальством. И здесь его, Сычева, победа, утешавшая его давно жаждавшее утешения самолюбие, и была той причиной, следствием которой и должны будут явиться предстоящие разговоры. И, представляя их, Сычев сейчас только, начинал понимать, что именно тут-то и будет проведена проба его героизма.
Затем ему приснился сон, который, словно по заказу, усугубил его понимание и углубил предчувствия. Сон этот спустился на него подобно мифологическому облаку и явил Одиссея, до странности похожего на самого Сычева; сидя на камне в несколько неудобной позе, Одиссей выводил шариковой ручкой на листе бумаги:
«В Совет старейшин острова Итаки от Одиссея, царя, проживающего на Козьем холме, 15
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне долгосрочный отпуск без сохранения содержания на предмет участия в Троянской войне с 1-го июля с. г.»
Но только он поставил последнюю точку, не успев даже подписаться, как сразу же вслед за этим из пространства появилась рука с карандашом — самым что ни есть обыкновенным красным многогранным карандашом, который всегда можно увидеть торчащим из кармана главного специалиста по транспорту; и эта рука, опустившись на левый верхний угол заявления, оставила там следующую резолюцию: «Категорически возражаю, ввиду сроков сдачи проектной документации по городу Красногорску».
И это было все! Это было крушением всех надежд для человека, подавшего заявление, вне зависимости от того, какие основания выдвигал он в поддержку своей просьбы — Троянскую войну или поездку на первенство мира; несколько слов, начертанных красным карандашом, ставили предел всему — и будущим подвигам Одиссея, которым в данном случае не суждено было свершиться, и надеждам Сычева, просыпавшегося в горячем поту.
А ночь за оконными стеклами жила своей собственной жизнью. Потом пришел рассвет; придя, он осветил помятое кошмарными сновидениями лицо Сычева.
16
И вот уже снова он идет дорогой, проторенной и хорошо ему известной. Но на сей раз это отнюдь не дорога свободы, позволяющая неторопливо и вдумчиво совершать долгий путь по радующим душу местам. Нет — это жестко ограниченная трасса, свернуть с которой нельзя. Бегом, бегом, вниз, вверх и снова бегом — и только перед старинными воротами с четко выбитой на них датой — 1740 — обнаруживается запас времени, равный двум минутам, в то время как вполне достаточно полутора. Тогда он умеряет бег и пропадает в общем потоке сослуживцев, отбивающих торопливый шаг по выщербленным каменным плитам.
Да, сейчас он совсем не похож на героя, который еще вчера стоял на пьедестале почета, прижимая к груди охапку цветов, под знаменем своей страны, поднятым в его честь. Там был один человек, здесь — совсем другой, не говоря уж о знамени, которого здесь не было вовсе. Прошмыгнув через вахтерскую, другой человек идет направо, вешает на гвоздь свой плащ, а затем выходит в длинный коридор, где, привычно переводя дух, стоят уже, привалившись к стене, первые курильщики, жадно втягивая в себя синий дым и обмениваясь самыми экстренными, не терпящими отлагательства даже до обеденного перерыва новостями. Здесь он кивает головой налево и направо; он делал это каждый день и на протяжении всех последних лет, и поскольку его отсутствие, длившееся меньше недели, не было даже замечено, его появление тоже не вызвало никакой реакции. Все было точно так же, как вчера, позавчера, на той неделе, пять, десять, а может быть, и двадцать лет тому назад: неторопливо снималась с подрамников калька, неторопливо натягивались темные сатиновые нарукавники, пересказывались услышанные вчера анекдоты, очинялись карандаши… Кто-то требовал открыть окна, кто-то возражал; хлопала дверь, поднимая со столов карандашные очистки и шевеля листы бумаги; уже звонил телефон; раздавались зевки, потрескивали расправляемые суставы. Женщины с неодобрительным подозрением глядели в маленькие карманные зеркала, и сладкий запах пудры щекотал обоняние. Через все огромное помещение пронесся первый крик: «Гуляева — к телефону…» Словом, все было так, будто на земле не могло случиться ничего такого, что могло бы хоть как-то поколебать и разбудить привычное течение здешних дел. И, уж конечно, не подвигам Одиссея было это под силу — Одиссея, так удивительно похожего на самого Сычева в его тревожных ночных сновидениях. Сам же Сычев, внезапно приунывший, не без ловкости лавировал между огромными подрамниками, расставленными в самом прихотливом порядке, узнавая попутно последние новости. Какие-то сведения — самые разные — доносились со всех сторон, но о нем самом, о том, где он был и что он делал, — ни слова. И только когда, войдя во второй коридор, свернув налево, налево и налево, он наконец открыл свою дверь, только тут он почувствовал себя наконец- то доли и испустил глубокий вздох, который в равной степени можно было считать как вздохом разочарования, так и вздохом облегчения.
Первым, кого он увидел, был Сергей Татищев, все такой же кругленький и ладный, с припухлыми глазами и помятым лицом. Он сидел на колченогом стуле. Демьяныч, которого и в это утро преследовали некие девицы, рассказывал об этом событии с крайним возбуждением, размахивая руками и сильно двигая кадыком. Завидев Сычева, оба они, привстав, застыли на какое-то мгновение, но тут же опомнились, ибо не такие они были люди, чтобы долго находиться в замешательстве. Тут же выяснилось, что оба уже наслышаны о подвигах новоиспеченного героя. Татищев, щуря свои щелочки, предложил было крикнуть «ура», но предложение одобрено не было. Иное дело Демьяныч, бывший, не в пример Татищеву, человеком солидным, обстоятельным и серьезным; потирая руки, он в весьма торжественных выражениях поздравил Сычева с успехом, а затем, глядя несколько в сторону и вниз, скромно предложил свои услуги — он мог бы сбегать, поскольку совершенно невероятно, чтобы подобный успех не был отмечен.
— Тронут, — сказал Сычев. — Весьма.
Через несколько минут Демьяныч, протиснув костлявую фигуру в окно, прытко бежал по утреннему холодку. Сычев же уселся за свои чертежи, успевшие за эту неделю несколько подзапылиться. Затем он отточил карандаш и в немногих словах поведал Татищеву обо всем происшедшем.
Обеденный перерыв подкрался среди множества дел. Заявление об отпуске без сохранения содержания сроком на месяц «для подготовки и участия в первенстве мира», как говорилось в ходатайстве Комитета по делам физической культуры и спорта, уже находилось у секретаря; чертежи и схемы, касавшиеся транспортного развития города Красногорска, были приведены в относительный порядок; что касается добровольной миссии Демьяныча, то она увенчалась полным успехом, в честь чего и были произнесены соответствующие событию речи, тосты и пожелания. В обеденное время они продолжали работать: Сычев набрасывал «клеверный лист» — транспортную развязку в двух уровнях, Демьяныч вновь и вновь возвращался к своему утреннему приключению и клеил на макет маленькие небоскребы из пенопласта; Татищев заливал гуашью кальку.
— Сычев, а Сычев, — сказал он вдруг ни с того ни с сего.
— Ну, — сказал Сычев, водя циркулем, — ну…
Но Татищев уже снова ушел в свою кальку. И только минут через пять он вытащил из-под стола магнитофон и, пробормотав нечто невнятное, нажал клавишу. Что-то зашипело и смолкло. Затем раздалась музыка, музыка жизни и смерти, Реквием…
— Тихо, — сказал Татищев.
Сычев смотрел на него, сморщившись от напряжения.
Лицо Татищева с уже не улыбающимися пухлыми веками стало отодвигаться в неясную даль, служа как бы фонам, экраном, на котором Сычев увидел нечто давно забытое: просеку в сердцевине дремучего северного леса и палатку на просеке, похожую на утлый челн, заблудившийся среди бескрайнего зеленого моря под сизыми тучами, стремительно гонимыми холодным ветром; желтовато-серый брезентовый полог, готовый сорваться и улететь, а под этим пологом четырех уставших людей, лежащих в сырых спальных мешках из свалявшейся ваты на самодельных нарах, пытающихся согреться до наступления следующего утра, когда придется вылезать из нагревшихся за ночь тепло-сырых мешков и, натянув холодные резиновые сапоги, снова, час за часом, идти по лесу. Но пока они лежали, они могли об этом и не думать, и они не думали, а лежали, без желаний и мыслей, потрескивал отсыревшими батареями приемник, оставляя их безучастными до тех пор, пока не раздалась эта вот самая музыка и не были произнесены эти же первые слова: