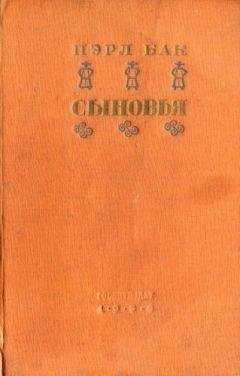Выходило, будто усадьба принадлежала Тасе, и она хозяйничала, как ей нравилось: немного расточительно и, спохватясь, бережливо, настоящей заботницей. Она всегда слушалась Терентия Крайнова, Совета, и получалось скорее— имение давно народное, Тася лишь в услужении Совета и, слава богу, хорошо справляется со своими обязанностями.
Некоторые мужики, осторожничая, побаиваясь после всего, что случилось, лишь головами качали. Другие, посмелее, толковали вразнолад:
— Ах, догони ее вдогонку, что вытворяет!.. Ну и безмужняя молодайка!
— Забыла, видать, кто и почему лежит на кладбище вдвоем в одной могиле. Не заметит, как и сама там-отка очутится…
— Раненько, кажись, за новую революцию взялась Таисия Андреевна, раненько…
Мамки же без всяких оговорок заметно одобряли Тасю:
— Так и надобно! Чего зевать?.. Не рано, кому дано, а кому не дано — завсегда рано…
— Ой, не могу, до чего все правильно!
Кто из мужиков управились по хозяйству раньше других, посиживали уж вечерами на завалинах дотемна, на-сторожась, молча выжидая, в валенках и шубах, по-зимнему. Газеты приходили не каждый день, поэтому сказ тут завсегда был один: чего не знаешь — не разгадаешь. Которые мамки, скорые на руку, приделав самое неотложное, экономя драгоценный керосин, начинали собираться после ужина в избах по очереди, с прялками и вязаньем. Но не столько работали, сколько отдыхали, чесали обрадованно языками, словно они знали больше мужиков.
— Кажись, жди не плохого — хорошего, — убежденно говорила тетка Ираида. — Держат, держат наших человиков попусту в остроге — и выпустят…
— А что ж? Вестимо, — соглашалась Солина Надежда. — Советы, чу, опять подняли голову.
— Известно, где руки, там и голова.
Тетка Апраксея значительно вскидывала бровями, на кого-то намекая, может, на своего Федора:
— Слава тебе господи, хватуны у нас поискать какие… Тася-то, радуша, умница, смотри как командует…
— Ой, хвали-и, бабоньки, ясно утро ве-ечером, — пела опасливо, как всегда, сестрица Аннушка.
Побросав прялки и спицы, мамки крестились.
— Помоги нам, царица небесная, матушка…
А в Шуркиной избе бывали свои маленькие праздники, лучше посиделок. После чая, который пили без сладостей, по привычке и наскоро, при лампадке, ополоснув посуду под самоваром, убрав ее со стола, мамка с засученными рукавами и прядями серебринок, свисавших ей на скорбное лицо, на печальные глаза, преобразись, зажигала торжественно редкостную жестяную пятилинейку и приносила из сеней на кухню корыто, большое, старое, в котором батя когда-то обаривал ржаным раствором-обарой горшки, обожженные в печи. Навсегда осталась в корыте метка — раскаленно-огненные батины глиняные творения — ведерники, корчаги, кулачники, — схваченные обгорелыми деревянными клещами, шипя и ворочаясь в клубах пара, протерли на толстом дне корыта порядочную ямку. В этой ямке скапливалась глубже вода и долго не стыла.
Ванятка и Тонюшка сбегались на кухню смотреть, как мамка будет купать Машутку. Два мужика, стесняясь, важничая, отсиживались некоторое время за книжками и тетрадками, хотя при лампадке, которую водружали с божницы на стол, много уроков не выучишь. Надобно засветло помнить о школе. Эх, горе-ученики, старшеклассники!
Помаявшись, не вытерпев, и мужики присоединялись к Тоньке и Ванятке. Корыто окружали с трех сторон, чтобы лучше все видеть. Только одна сторона у корыта была в распоряжении матери.
— Маменька, неси, — звала она, доставая чугун с водой из печи. — У меня все готово.
Бабуша Матрена живехонько вынимала в спальне из зыбки проснувшуюся, гугукающую Машутку и, разговаривая с ней и сама с собой, клохча ласковым смехом, спешила на кухню.
— Не урони, — говорила мать, переливая из чугуна горячую воду в корыто.
— Дай лучше я понесу, — предлагал Яшка.
— Я! Я! — кричали, требовали Ванятка и Тонюшка. — Мы понесем, не уроним!
А Шурка просто кидался бабуше навстречу И зря: бабуша никому не отдавала Машутки.
— Небось не отвыкла, не маленькая. Перенянчила всех вас и не роняла… Проваливайте-ка прочь, не мешайте, — ворчала она. И нараспев радостно приговаривала: — Белая моя куколка, сладкая изюм-ягодка, скусная… Чичас съем и косточек не оставлю. Ам! Ам!
Удивительно, как она, слепая, держа спеленатую Машутку на вытянутых руках, проходила на кухню, не задев комода и переборок, будто все отлично видела.
— Агу, моя хорошенькая, несказанное утешеньице, агу! — клохтала бабуша старческим смехом, и добрый кривой зуб, выглядывавший в уголке ввалившихся губ, и волосатая бородавка на щеке клохтали вместе с ней и агукали. — В кого ты у нас уродилась? По глазенкам вижу — карие, и волосенки темные, с курчавинками, носишко, как щипок, — все отцово, — приговаривала бабуша Матрена.
И до чего было правильно! Мамка сказала, а она запомнила, повторяет каждый день в свое удовольствие.
Мать разбавляла холодной водой горячую, пробовала ее голым локтем. Принимала от бабуши Машутку, быстро, ловко разворачивала ее из свивальника и пеленки. Казалось, девчушка сама все это проделывает, высвобождая с облегчением молочно-синеватые, перевязанные ниточкой в запястьях ручонки и суча ножками с такими крохотными, розовыми ноготками, будто цветочные лепестки. Она начинала плакать, и ребятам становилось жалко ее.
— Мама, ты сделала ей больно, — шептал Ванятка, морщась.
А Тонюшка чуть сама не ревела.
— Больно, больно! — ныла она, толкаясь у корыта. — Пустите, я подую… пройдет, перестанет плакать.
— А вот мы сейчас ее успокоим, — говорила, усмехаясь, мамка и клала Машутку в корыто, в теплую воду, предварительно одной свободной рукой сделав там, в знакомой ямке, постельку из тряпок, и девчушка сразу стихала.
Мать держала ее в ладони за темную головку, вверх личиком. Карие, батины глазенки Машутки таращились на лампу, а ребятам казалось, что Машутка словно бы смотрит на них, узнает и начинает улыбаться.
Горстью, точно ковшиком, мамка поливала дочурку и разговаривала с ней, как бабуша. А та, отыскав ощупью припасенный обмылочек, помогала купать. Натирала обмылком сырую, мягкую тряпочку и принималась осторожно гладить ею тельце Машутки.
— Дай хоть я тебя потрогаю, помылю, толстенькая, атласная моя!
Машутка сучила голыми ножками, плескалась в корыте ручонками. Она чмокала и булькала ртом, пускала им пузыри и гугукала.
— Машутка, Машутка, агу! Ты меня узнаешь? — : спрашивала Тонька, наклоняясь к корыту. И кричала на всю избу: — Узнала! Узнала!.. Смеется!
И Шурка с Яшкой и Ваняткой тоже начинали спрашивать Машутку, узнает ли она их. Мамка, затопив кухню голубым забытым светом своих оживших глаз, говорила:
— Всех узнала, всех… Ну хватит. Как бы не простудить, вода совсем остыла.
Она окачивала Машутку остатками теплой воды, повернув попкой. Девчушка не умела еще крепко и долго держать голову, поднимала ее и роняла. Головка свисала у ней беспомощно вниз, и ребята боязливо ахали, как бы не сломалась шейка.
— Поддержи за подбородок! — торопливо приказывал Шурка матери. — Погоди, я сам…
Но раньше его совались Яшка, Ванятка и Тонюшка. Три руки поддерживали голову Машутки. Тотчас же к ним присоединялась сердито четвертая поспешная рука. До бархатно-теплого, мокрого подбородочка она успевала дотронуться лишь пальцем. Мать вынимала дочку из корыта, вытирала, клала в чистую простынку из своей прохудившейся сорочки, кутала в лоскутное одеяльце. Садилась на скамью, расстегивая кофту, и прикладывала Машутку к груди.
Праздник продолжался. Все смотрели, как Машутка, ворочая чепчиком, совалась носишком поглубже в мамкину кофту, искала там то, что ей надо было, начинала сопеть и захлебываться от нетерпения. Потом все налаживалось, и она стихала.
Ребята, сдерживая дыхание, долго не отходили от скамьи. Бабуша Матрена возилась на кухне с корытом, сливала ощупью громкую воду в ведро. Мамка задумчиво покачивала спящую Машутку на коленях, и лицо у нее, у мамки, опять становилось скорбным…
Все горькое снова забывалось и тогда, когда мамка, оставив Машутку на попечение бабуши, уложив спать маленьких говорунков, шла с газетами на минутку в читальню, если Митя-почтальон по привычке или торопясь заносил им их со станции, не доходя до Григория Евгеньевича. Коли библиотека-читальня бывала на замке (учитель, занятый школой, иногда открывал свое завлекательное заведение только по субботам вечером да в воскресенье днем), мать по обыкновению относила газеты ближним мужикам на завалину. Шурка и Яшка всегда ее сопровождали. Толкуя о чем-нибудь своем, школьном, ребячьем, они летели впереди в одних картузах, позабыв в приятной спешке одеться по погоде, и холод тотчас забирался им под рубашки.
К ночи, как всегда бывает поздней осенью, разносило тучи, небо яснело в частых звездах. Становилось на улице свежо. Рано высоко поднималась большая, ослепительно снежная луна. Казалось, это она своим ледяным пронзительным светом подмораживает грязь на шоссейке.