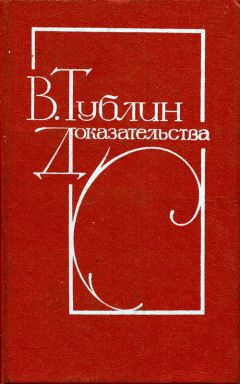Офицер кивком подтверждает — сидит.
— Так чего же вы ждете? — непривычно резким голосом спрашивает Цезарь. — Вы — офицер… За уши его… Возьмите его за уши и поставьте!
Офицер, наклоняясь:
— Император, я не могу. Это народный трибун Аквила.
Вот оно что! Боль хищной волной окатывает Цезаря. Неприкосновенный трибун, всякий, поднявший на него руку, подлежит смерти. Этого следовало ожидать, этого или чего- то подобного. Офицер вопросительно смотрит. Цезарь хорошо видит этот взгляд, в котором сквозь растерянность все более явно проступает решительность. Прикажи он — и офицер, не задумываясь, выполнит его, Цезаря, приказ, каков бы он ни был. На мгновенье, не больше, у Цезаря появляется желание отдать такой приказ. Однако уже в следующее мгновенье он понимает, что этого приказа он не отдаст, это просто невозможно. И тут же он замечает наступившую тишину — после бури звуков, еще минуту назад сотрясавших воздух, она кажется еще более неестественной. Цезарь мгновенно оценивает обстановку — вот какова преданность этих крикунов. Нет, нельзя даже показать этому слишком преданному офицеру, что мысль об аресте народного трибуна могла прийти ему в голову.
— Хорошо, — произносит Цезарь.
С этими словами покидает колесницу. Идет к трибунам, к тому месту, которое отгорожено от остальных толстым деревянным брусом. Каждый шаг дается ему с огромным трудом, словно за плечами нестерпимо тяжелая ноша. Приподнятого настроения, торжественности как не бывало. Только усталость чувствует он, страшную усталость и непонятное ему самому безразличие. Он знал, что так будет. Не следовало ему поддаваться на уговоры сената, не нужен был ему этот сомнительный триумф. Теперь уже поздно сожалеть. Поздно. Он идет, тяжело ступая в своем великолепном одеянии триумфатора, пурпурный плащ, затканный серебряными звездами, волочится по пыли. Он подходит к тому месту, где стоят девять народных трибунов, ловит их настороженные взгляды, эти взгляды сопровождают Цезаря и останавливаются вместе с ним у того места, где сидит народный трибун Понтий Аквила. Сидит один — среди тысяч и тысяч стоящих.
Цезарь подходит к нему, почти вплотную подходит он к толстому деревянному брусу. Делает еще шаг, берется рукой за брус, вглядывается в сидящего. Видит коротко подстриженные волосы, уже тронутые сединой, крепкую шею, видит настороженный взгляд слишком близко посаженных глаз. Глядя прямо в эти глаза, Цезарь спрашивает у сидящего, как же это выходит, что он, народный трибун Понтий Аквила, не хочет встать перед тем, кого сам римский народ и сенат почтили триумфом. Он задает этот вопрос негромко, но в полной тишине, опустившейся на площадь, голос Цезаря расслышали многие. И замерли, с жадным вниманием ожидая ответа. Напрягли слух. Но ответа не последовало. И тогда, пытаясь побороть закипавшую в нем холодную ярость, Цезарь повторяет свой вопрос: почему Понтий Аквила не желает стоя, как все, приветствовать его, Цезаря, триумфатора?
Стиснув зубы, молча сидит перед ним Понтий Аквила. Он глядит уже не на Цезаря, а на его руку, с силой сжимающую деревянный брус. На этой руке, на безымянном пальце он видит перстень — лазоревое поле и лев, поднимающий меч. Вот и все, что осталось от Помпеев — от отца и сына, — перстень на руке победителя. И триумф за это. Та же участь уготована всем, кто не согласен с Цезарем, если сейчас он этого еще не говорит откровенно, то и противодействия уже не терпит. И почему-то его жаль, он противится неправедным поступкам, но, противясь, все же будет их делать, следовательно, республику ожидает участь Помпея. «Скажи мне, что это не так», — подумал он и с трудом отвел глаза от руки с перстнем. Поднял их на Цезаря, встретил его непреклонный взгляд. «Он не понимает…»
Вслух он произносит: сидеть ему позволяют законы республики, Цезарю ли об этом не знать? «Помни, — без слов умоляет он Цезаря, — и покажи, что ты не таков!»
А Цезарь думает: «Вот оно что! Они напоминают мне о республике… сейчас, в этот миг». С ненавистью оглядывает он притихшую площадь. Лица, лица… все они притаились, замерли, молчат. Ждут, как он съест это… Подлая толпа, продажная свора… ждут подачек, денег, хлеба, готовы лизать руку, дающую это, но не упускают случая руку укусить. Нажравшись, но только после этого, вспоминают о своих республиканских правах. Республика?
— Так не вернуть ли тебе еще и республику, Понтий Аквила, народный трибун?
Громко раздались эти слова над молчащей толпой.
Ответ расслышал только тот, кому он предназначался.
— Республика — не Помпей, — тихо сказал Понтий Аквила. — Поэтому ее нельзя победить. И это не вещь — поэтому ее нельзя ни отобрать, ни вернуть, Цезарь. Даже такому человеку, как ты, это не под силу.
Но Цезарь уже не слушал последних слов. Большими шагами вернулся он к своей колеснице, похожей на серебряную башню, кони взяли с места, вновь прозвенели трубы. Взметнулась пыль.
Цезарь смотрел прямо перед собой. Республика… Да, Корнелий Бальб прав — народ понимает и поклоняется только силе, доброту же принимает за слабость. Он, Цезарь, был добр. Долго, очень долго.
Слишком долго. Но теперь — все.
Огромная площадь быстро пустела. Люди расходились, смущенные всем виденным и слышанным. Здесь было над чем подумать, была б охота. Остался лишь народный трибун Понтий Аквила. Одиноко сидел он на прежнем месте. О чем- то думал, машинально водя стилем по деревянному брусу, который уже не ограждал никого.
Он сидел и смотрел в ту сторону, куда много часов назад ушла триумфальная колесница, целиком сделанная из испанского серебра. И ему было горько.
Наконец ушел и он.
На толстом полированном брусе из редкого дерева осталась надпись. Четким, прямым почерком там было выцарапано всего два слова:
«ЗНАЧИТ — КИНЖАЛЫ…»
1984 г.
Повесть о китайском средневековом поэте Ду Фу и его деятельности во время восстания Ань Лушаня.
Глава первая
Краем глаза старик увидел человека над обрывом. И узнал его. Это был тот самый слуга с глупым и наглым лицом, который при всех обозвал его однажды нищим попрошайкой. Нищим он и был, но не попрошайкой. Нет. Ни сейчас, ни в иные времена, куда более тяжелые. Поэтому он затаил обиду, хотя давно уже понял, что обижаться на глупых людей бесполезно.
И все же…
Вот почему он никак не дал понять тому человеку над рекой, видит он его или нет… И скорее даже нет, не видит. Не видит и не хочет видеть. И не слышит — он глух, это знают все.
Он и в самом деле терял слух все больше и больше, левым ухом слышал совсем плохо, но не настолько, чтобы вовсе не услышать пронзительных криков слуги. Но он мог себе позволить не слышать их, если не хотел.
Он не хотел.
Когда, спустя некоторое время, он незаметно скосил глаза, то увидел, что берег над обрывом пуст. Значит, этому наглому и толстому дураку придется пойти в обход почти четыре ли — полчаса тишины и спокойствия, не меньше.
Старик довольно ухмыльнулся…
День обещал стать удачным. Легкая волна игриво покачивала старую джонку. Вода в реке была зеленой и прозрачной. Старик неловко, левой рукой, забросил сначала одну леску, затем вторую. Быстрое течение сразу же подхватило их и стало подбрасывать легкие поплавки, утащив их наискось от джонки, к перекатам, где и водилась форель. Прищурив слезящиеся глаза и приложив ладонь козырьком ко лбу, старик некоторое время вглядывался туда, где, вздрагивая и блестя, бились ярко раскрашенные поплавки из пробки. Поплавки эти подарил старику сосед, сапожник по имени Вэнь И, живший неподалеку. Он же подарил и вот эти удобные башмаки из козьей кожи, украшенные замысловатым узором. За что же?.. «За честь, которую вы, почтенный учитель, оказали неграмотному семейству Вэнь своей добротой и дружбой». Итак, есть еще люди, которые гордятся знакомством с ним, старым, больным, ни к чему уже не пригодным человеком — неудачливым чиновником, забытым поэтом, который дожил до того, что сытый и наглый слуга при всех назвал его попрошайкой. Чем же может он отплатить этим бесправным и вечно голодным людям за их доброту? Стихами и песнями? Да… стихами и песнями… Только нужны ли стихи и песни — его стихи и его песни — людям, которым каждый второй день нечего есть?
Они нужны им, это он знает твердо.
Колокольчики, привязанные у самого борта, издавали непрерывный мягкий звон. Этот звон старик слышал. Он был ему приятен, он завораживал, усыплял, навевал печаль и спокойствие, отвлекал от горьких мыслей о прошлом — горьких и бесполезных. Старик слышал этот мягкий звон, потому что он хотел его слышать. Да и вообще он многое слышал, несмотря на свою глухоту. И, хоть глаза были больные, вечно слезящиеся, многое видел. И много запомнил — много больше, чем кто-либо мог предположить.