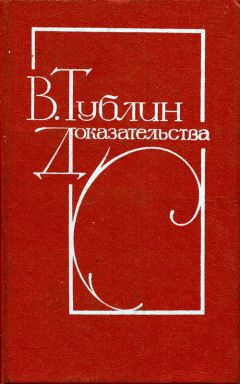«…райте» — повторило эхо в дальнем углу мрачного пустого зала. «Выбирайте» — это прошептало нечто неведомое внутри самого Ду Фу. Огромная тяжесть сдавила ему плечи и грудь, словно это свод неба, вечный и нерушимый, опустился на него. Вот оно, Слово. Оно рождается, уже родилось, оно произнесено и уже не исчезнет. Но ты ведь хотел этого, ученый и поэт по имени Ду Фу. Ты хотел этого всегда — принести себя отечеству, родине, стране, всем людям. Что же медлишь ты, почему колеблешься? Ведь слово произнесено и в твоей воле поймать, подхватить его, как поводья скакуна, либо упустить навсегда. Но странная робость сковывает язык. Почему? Вот оно, оказывается, как бывает, когда внезапно исполняются невысказанные, самые глубокие желания. Ни радости не испытываешь, ни изумления — только страх, словно увидел под ногой разверзшуюся бездонную пропасть. Страх, тяжесть — и тоскливое чувство одиночества.
Ань Лу-шань стоял у окна, вцепившись пальцами в ажурную решетку. За его спиной все накапливалась и загустевала тишина. Там, в тишине, зрело решение — но какое? Этот человек был нужен ему, именно этот. Сейчас он боролся один на один с самым искушающим из всех желаний — желанием власти, реальной, всемогущей. И, как стон, донесся до генерала голос:
— Но что? Что я могу?
Он только этого и ждал, цзедуши и генерал-губернатор Ань Лу-шань. В одно мгновенье он оказался рядом со сдавшимся человеком.
— Мой дорогой цзиныпи, — шепнул он, — вас надо понимать так: «Что могу я, поэт?» Да, мне нужны поэты. Но — облеченные властью. Когда-то вы говорили, что поэты, как и врачи, держат руку на пульсе человечества. Будьте же врачом этой страны. У меня много воинов, по натуре они ближе к хирургам. Но тех, кто мог бы лечить без ножа, — нет. Вы — первый. — Он отступил назад и произнес официальным голосом: — Цзиныпи Ду Фу! Вы возводитесь в чин советника первого разряда. — И добавил уже шепотом, на ухо: — Вы будете теперь держать руку на пульсе страны. И лечить. А если понадобится отворить кровь — вот для этой неприятной работы и пригодятся необразованные солдаты вроде кавалера Ши Гуаня.
И еще сказал он, помолчав:
— Я понимаю, высокочтимый друг: склонив вас к согласию, я сослужил вам плохую службу. Прежде у вас было мало друзей, теперь будет много врагов. Но один друг у вас все-таки есть, один есть.
Спустя неделю в конце улицы Минкэцюй, ведущей к Абрикосовому саду, в доме известной певицы Чэн Четвертой встретились двое молодых людей. Ничто не выдавало в них высокого положения, может быть только торопливость, с которой остальные гости поспешили покинуть уютный домик, да та предупредительность, с которой им были поданы вино и закуски. Потягивая вино, молодые люди внимательно и со знанием дела слушали простую протяжную мелодию, которую выводила на флейте хорошенькая девушка. При этом они обменивались короткими фразами.
— Итак, — сказал один между двумя глотками, — ты говорил с ним?
— Нет еще, — с явным усилием ответил второй, и мягкий подбородок его дрогнул.
— Трусишь? — с равнодушным презрением сказал тот, что выглядел постарше. — Что ж, я понимаю тебя, Ань Цзин-сюй. Он ведь все-таки твой отец. При этих условиях ты можешь и не выполнить нашей клятвы. Я это знал. Знал, что так будет. Но…
Безвольный подбородок второго напрягся.
— Клятву я сдержу. Обещаю тебе, Ши Чао-и, что сегодня же поговорю с ним.
— Нет, нет, прошу тебя, — небрежно сказал первый, поправляя подушку, — не надо. Я не хочу причинять тебе ни малейшего вреда. Кроме того, может случиться, что, когда ты станешь сыном императора, ты вспомнишь вдруг какую- нибудь обиду и тогда — кто знает причуды монархов — прикажешь меня казнить. А? — Он произнес это почти с удовольствием. — Да, да, ведь ты же станешь наследником престола.
— Нет, — воскликнул второй, безвольный, — не бывать этому. Я…отправляюсь сейчас же.
Первый вскочил:
— Извини меня. Я знаю — ты умеешь держать слово. — Он казался растроганным. — Слово «свобода» — для тебя не пустой звук. Не буду держать тебя. Встретимся завтра во время смотра. Ну, не робей.
Оставшись один, он подумал: «Иди, иди, бедный глупец. И если свой пыл ты не совсем растеряешь по дороге ко дворцу, ты сослужишь себе хорошую службу. Я сказал — „себе“? Нет, мне». Затем он произнес вслух странную фразу, которую маленькая Чэн запомнила, но поняла много позднее: «Так много голов — и всего три ступени». И еще: «Тяжелей всего начать».
— Вы что-то изволили сказать, господин? — спросила девушка, прервав игру на флейте.
— Отложи-ка ты свою флейту, — сказал ей красивый и мрачный юноша, — и иди поскорее ко мне.
Потом он спросил ее:
— Ты веришь в меня, Чэн?
— О да, мой господин, — прошептала девушка, — ведь вы такой щедрый.
— Ты еще не такое увидишь, — пообещал он, — Все увидят…
Старая служанка, бесшумная, как тень, задула светильник.
В этот же вечер, часом позже, двое стариков вели разговор: некто третий, притаившийся за портьерами, слышал каждое слово и, не видя собеседников, хорошо представлял их: высокого, с громоподобным голосом, и низенького, невозмутимого, спокойного, с голосом резким и сухим. Собеседники были уверены, что они одни, друг друга они знали давно, с детства, со времен, когда третьего, что стоял сейчас за портьерами, еще не было, ибо он родился от одного из них.
Нет, он вовсе не собирался подслушивать, он шел к отцу… Они сами, увлеченные разговором, войдя в этот зал, не заметили тени, метнувшейся к портьере. А метнулся он именно потому, что услышал слова, которых не должен был слышать…
— Итак, — сказал скрипучий спокойный голос, — ты решился?
Громогласный подтвердил:
— Да.
После того наступила тишина.
— А ты далеко шагнул, — снова проскрипел невозмутимый, но это было лишь констатацией факта, зависти в нем не было. — От начальника десятка до императора.
На это громогласный заметил дружелюбно:
— И ты тоже: от солдата до министра.
Скрипучий словно в раздумье:
— Император — Сын Неба. А что такое министр? Тот же солдат, которым командуют…
— Тобой не покомандуют, — заверил его громогласный. — Правой рукой императора распоряжается только он сам.
«Пока он. жив, — уточнил тот, кто был третьим, — Интересно, приходит ли им это в голову?»
Тишина и шаги.
— Значит — династия, — проскрипел спокойный. Впрочем, он, кажется, был не так уж спокоен, произнося последнее слово.
Тот, кто стоял за портьерой, прижал рукой собственное сердце, чтобы заглушить его стук.
Тот из собеседников, у кого был грузный, твердый шаг, заходил по комнате еще быстрее.
— Династия, — сказал он, остановившись. — Да.
— Мы не вечны, — заметил его собеседник, — Тот, кто идет за тобой следом, наследует титул. А кто наследует дела?
— Но я еще не собираюсь покидать этот мир, — заметил громогласный.
На что спокойный сказал:
— Все в руках судьбы. — И затем, явно колеблясь: — Твой сын…
— Ах, брось… Его тебе бояться не следует.
— Это почему же? — осторожно спросил спокойный после некоторого раздумья, а у того, кто подслушивал, напрягся безвольный подбородок.
— Потому… — сказал громкий голос, — потому что-.. — Он, казалось, колебался. Ладно, он скажет. — Потому что в случае моей смерти престол наследуешь ты. А он будет править лишь после тебя, если обнаружит к этому способности.
— Многим такое решение не понравится. Они и так… Мои агенты докладывают о некоторых разговорах… Многие из молодых офицеров хотят взять поводья власти сегодня. Они говорят: мы воевали, а у власти опять старики. В чем- то их нетерпение можно понять. Назначение Ду Фу на высокую должность вызвало целую бурю.
— Он умнее всех этих крикунов в десять раз, — сказал громогласный. — А что касается нетерпеливых… им придется все же подождать. Они и так уже получили больше, чем заработали.
— И все-таки лишать твоего сына престола — это незаконно, — задумчиво сказал спокойный.
На что громогласный засмеялся:
— Законы зависят от того, кто издает их. А издаем их мы. Ты обижаешь своего сына, — не унимался один.
— Я не люблю его, — признался другой, и у того, кто подслушивал, от этого признания остановилось сердце. — Ты знаешь, от кого я хотел бы иметь сыновей.
— Ян Гуй-фэй, — тихо сказал спокойный.
— Ян Гуй-фэй, — отдаленным раскатом грома пророкотал второй голос. — Не могу ее забыть. Ты же помнишь ее малышкой. Ну конечно, ты помнишь. Она уже в тринадцать лет была как взрослая.
— Ты сильно любил ее тогда, — сказал спокойный голос. — Но кем ты был тогда, кем были мы оба: я — солдат, ты — десятник… Нам не на что было рассчитывать. Но ты любил ее тогда, я помню.
— Я всю жизнь ее люблю. И теперь. Теперь, когда ее нет, я люблю ее еще сильней. Двадцать лет назад я сказал ей, что она станет первой женщиной в стране. И я сдержал бы слово, только ее уже нет. Всю жизнь я шел к ней, шел и терял ее: первый раз — когда ее продали в гарем наследника Шоу, второй — когда ее увидел Мин Хуан, третий — когда они ее убили. — Грузные шаги вновь зазвучали под сводами комнаты, громкий голос прерывался. — Они задушили ее шнурком от халата. Ты ничего этого не знаешь, друг моего детства Ши Сы-мин, мой наследник. Это произошло в грязном местечке, оно называется станция Мэвэй, будь оно проклято. Они только остановились на ночлег, как эти молокососы из императорской гвардии, которые, убегая, обмочились от страха, почувствовали приступ храбрости. Они взбунтовались — благо никого, кроме них, не было. Сначала они задушили ее брата, ты помнишь красавца Ян Го-чжуна? Это он сосватал в свое время девочку в гарем наследника. Что ж, он получил свое. Говорят, он даже умереть толком не сумел — валялся в ногах, вымаливая себе жизнь. Ничто не помогло. Ему отрубили голову и насадили на копье. И тогда, войдя во вкус, они потребовали ее головы. И этот старый каплун согласился. Но он плакал. Ты слышишь — он плакал. Он заплакал и в знак траура надел белые одежды, словно она уже умерла, а она была еще жива, и безбородый Гао Ли-ши, никогда не спавший с женщиной, задушил ее шелковым шнурком.