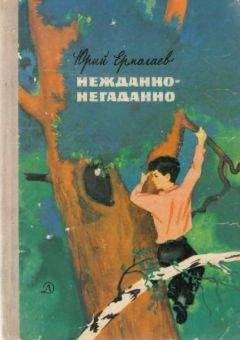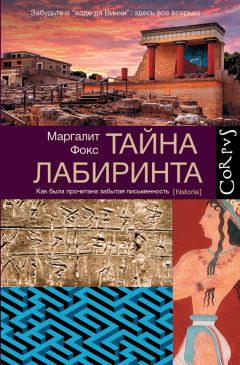— Бьют тяжелые гаубицы, — бормочет Галлаи.
По яркости вспышек пытаюсь определить расстояние — грохот сюда не доносится. Гаубицы, пожалуй, не меньше чем в тридцати километрах отсюда. Они исторгают затяжные, вихреподобные красные сполохи. Мне вспоминаются багровые краски Помпеи, такие же сочные, густые краски, и я даже вслух произношу:
— Багровая Помпея, помнишь, Кальман?
В последнее мирное лето мы втроем — Кальман Дешё, один пештский студент юридического факультета и я — пешком добрались до Италии. Любопытные, нескладные паннонцы[5] под средиземноморским небом. Наши рюкзаки сплошь покрылись жирными пятнами от колбасы и сала, запасенных на три недели впрок. В середине августа на закате солнца мы вошли в погребенный под серой лавой мертвый город. Стены домов в лучах заходящего солнца, казалось, горели красным пламенем, багрово-огненные отблески произвели на нас потрясающее впечатление, мы стояли как зачарованные. И только на обратном пути спохватились, что забыли осмотреть Виллу Мистериозу, где хотели ознакомиться с фресками, вдохновленными неразделенной любовью.
Винокурня Барталов на горе почти напоминает виллу. Просторная веранда, кухня, три комнаты, ванная, а внизу огромный выложенный кирпичом винный подвал. Геза воротит нос от запаха виноградной мезги и айвы. Он бывал здесь не более пяти раз, сам не любит вино и не выносит, как он выражается, все мужицкое — запах конского пота, навоза. Отец, носатый Бартал, в одиночестве, потягивай от скуки вино, обычно сидит здесь и, наверно, сокрушается о том, что яблоко так далеко упало от яблони. Он дал сыну образование, а теперь, мне кажется, даже наедине с ним называет его господином доктором и угождает ему, как старый слуга. Ничего не поделаешь, наследника нет, все достанется зятю, зря только старался: господина доктора — издерганного, не в меру нервного, чувствительного, словно раз и навсегда решившего положить конец размеренной жизни своих предков-крестьян — не интересуют ни земля, ни хозяйство. На окнах и застекленных дверях — черная бумага, но мы из предосторожности зажигаем только небольшую настольную лампу. Шорки моется в ванной, брызгаясь холодной водой, Тарба трет свой автомат какой-то тряпкой. Я очень завидую тем, кто и в такое время способен найти для себя какое-нибудь занятие. Все-таки надо бы наведаться к Шуранди. Смотрю на свою повестку, которую принесли в девять часов утра, с тех пор в Будапешт ушло семь поездов. Оправдаться нечем, первый же патруль схватит меня.
Мы приходим во дворец, и старый слуга Йожеф ведет нас наверх в малый салон. Как всегда, черная ливрея висит на нем, словно на вешалке, редкие волосы гладко зачесаны на пробор. Галлаи вертит головой, пораженный великолепием холла, переоборудованного из усыпальни. «Вот это да!» — очевидно, думает он. И разве не свинство — едва соприкоснувшись с настоящей роскошью, человек в любую минуту может с ней распроститься. Я рассматриваю гравюры, развешанные на стене вдоль вытесанной из гранита широкой лестницы. Да, все точно так же, как и раньше, рядом с арадскими мучениками охота с собаками — ничем не объяснимое, случайное соседство. Не думаю, чтобы барон когда-нибудь осматривал все свои гравюры подряд. В малом салоне, отделанном фиолетовым шелком, вокруг уставленного бутылками и рюмками столика, дымя сигарами, беседуют трое: Галди, благочинный Грета и секретарь управы из Битты. Компания невелика. Секретарь управы, очевидно, потому здесь, что почти половина владений Галди приходится на окрестности Битты. Галлаи удивленно шепчет мне:
— Значит, его сиятельство не укладывает вещи?
— Весьма рад, — говорит барон, но руки никому не подает, только кивает большой лысой головой, обрамленной седыми волосами, и жестом дает понять: мол, кто не знаком, знакомьтесь.
Дешё тоже никогда еще не бывал во дворце. Он с интересом разглядывает роскошный малый салон, исполненный в стиле барокко, особенно долго задерживает взгляд на нарисованных между оконными проемами фавнах, гоняющихся за бабочками.
— Это не Маульпертш?
Барон, мельком взглянув на Дешё, вежливо кивает:
— Да, разумеется. Мой прадед пригласил его расписать алтарь святой церкви, тогда же он сделал и это. И еще фреску на потолке столовой. Неплохая работа. Я, правда, считаю, что Маульпертш несколько суховат, академичен, но это… дело вкуса. Прошу вас, шотландское виски. — Он указал на поднос с видом человека, который считает чем-то само собой разумеющимся, чтобы на четвертом году войны имелось шотландское виски. — Но если предпочитаете абрикосовую, пожалуйста. Эрне, дорогой, ты у себя дома, наливай господам.
Секретарь управы стоит у самого угла стола, сжимая в руках рюмку. Вот он пригубил, поморщился — видимо, не нравится, но поставить рюмку не осмеливается. Его кофейного цвета в полоску костюм пропах нафталином, сухая обветренная кожа испещрена морщинами. Он с готовностью вступает в разговор, хотя вряд ли кого это интересует.
— Да, — говорит он, вытирая лоб, — его сиятельство в пору своей дипломатической деятельности любил виски. Он был секретарем посольства в Лондоне. Да, да, он в совершенстве владеет английским, об этом знают все.
Секретарь управы заметно волнуется. Он не успевает убрать в карман платок, потому что то и дело вытирает им лицо. Может быть, терзается тем, что он сейчас не дома, ведь Битта всего в трех километрах от фронта, но в присутствии барона не смеет выражать тревогу или говорить о своих заботах. Галди угощает нас сигарами. Галлаи пьет виски вперемежку с абрикосовой всякой, первым тянется за сигарой, явно не упуская случая насладиться жизнью. Я пододвигаюсь к Дешё. На его тонком, красивом лице блуждает задумчивая улыбка.
— Взгляни на лейтенанта, — тихо говорит он мне, — любил, бывало, прихвастнуть, в каком обществе ему приходилось вращаться в бытность свою министерским делопроизводителем. Например, поужинать с высокопоставленным лицом и даже с самим статс-секретарем для него было таким же обычным делом, как для другого зайти перекусить к теще. Но попал в какую-то глупую историю, и его вышибли из министерства, где он, по-видимому, подвизался недолго, не успев даже усвоить элементарные правила поведения в обществе. Затем работал агентом по сбыту у какого-то текстильного фабриканта, зарабатывал большие деньги, простую мешковину ухитрялся сбывать за лидское сукно, и его манеры стали, разумеется, еще хуже.
— Откуда он родом?
— Из Комарома. Его настоящая фамилия — Герстенфельдер, но он вполне порядочный шваб, потому и ругается беспрестанно, что хочет казаться заправским венгром, какого и свет не видывал. Фамилия, конечно, никак не подходила к офицерскому мундиру, в армии он попросил разрешения сменить ее на венгерскую. Впрочем, не беда, что он пьет. Если налижется до чертиков, может, отмочит что-нибудь забористое этим манекенам, пусть их передернет.
— Не думаю, чтобы барон…
— Все притворяются. Правда, у барона это получается. А у остальных? Ты думаешь, у благочинного на уме сейчас виски? А посмотри на секретаря управы. Его не мешало бы предупредить, чтобы он Не жевал свой платок, ведь ему предстоит еще ужинать.
Завидую Дешё. Ему случалось попадать в более серьезные переделки, чем мне, и не менее горько было расставаться с матерью, чем мне уйти, не попрощавшись с Клари, но он остается самим собой, держит себя в руках и изо всей компании, включая и Галди, безусловно, самый корректный и выдержанный.
— Летом я не пью виски, — говорит Галди, глядя куда-то поверх наших голов. — Англичане пьют и летом, но, правда, со льдом. Я не могу.
Секретарь управы достает свежий платок. Один уже промок от пота.
— Изволите употреблять от осени до весны, совершенно правильно, — поддакивает благочинный, отваживаясь принять участие в разговоре. — Когда у человека к непогоде начинается ломота в костях, эти крепкие напитки очень хорошо помогают.
— И особливо к дождю, — отзывается секретарь управы, с полупоклоном и не спуская глаз с барона. — Такой, бывало, зарядит в осеннюю пору, что конца ему не видно. У меня, правда, кости не ломит, но зато мучают головные боли. Весь день теребят меня насчет подвод; да, в нашей деревне мало солдат, но зато каждый норовит ездить на персональной подводе, а если дороги развезет, то крестьян и палкой не выгонишь на извоз.
— К тому же, — вставляет Галлаи, совсем осоловевший от выпитых вперемежку напитков, — если русские начнут стрелять им в зад, тогда совсем плохо. Крестьяне более чувствительны к пуле, чем к погоде.
Благочинный предупредительно покашливает. Секретарь управы начинает сетовать по поводу того, что свекла все еще в поле и вряд ли удастся ее убрать.
— Летом, — продолжает свою мысль Галди, словно строго придерживаясь соглашения говорить о чем угодно, только не о войне, — лучше всего сухие, слабые вина. С пива пучит. Нет, пиво не для венгров. Бесхарактерное пойло. Венгр ищет в еде и напитках характер.