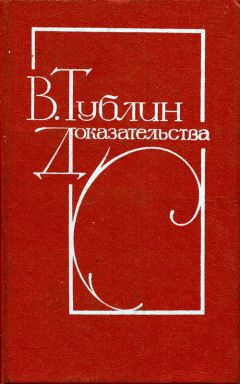И вот он вбежал…
Молодой солдат из охраны сидел на корточках в углу, у окна. С веселым любопытством, совсем не стесняясь, смотрел он на запыхавшегося Ду Фу, его сабля стояла рядом, у стены, а кругом, по всей комнате, валялись скомканные и загаженные бесценные шелковые свитки. И тогда Ду Фу почувствовал, как им овладевает беспощадная тупая злоба. Там, в углу, на корточках, нагло ухмыляясь, сидел не глупый молодой солдат, не научившийся читать, нет — это был символ всех тех, кто загадил его страну, и его жизнь, и жизнь тысяч других людей. И от тупой, заливающей сердце злобы Ду Фу уже не помнил себя и только — словно со стороны — увидел, как испуганно пытается подняться молодой солдат. Но сабля уже прочертила короткий и блестящий путь, и на белой, по-юношески тонкой шее появился широкий бескровный сначала порез, а затем кровь — удивительно веселого, яркого цвета — забила свободной струей, и солдат, загребая воздух правой рукой, упал и умер на его глазах, среди крови и испражнений. А он все стоял и стоял — поэт и министр Ду Фу, и весь мир виделся ему как скопление загаженной человеческой мысли, крови и смерти. Затем он поставил саблю на место, где она стояла, вышел, плотно прикрыв за собой дверь, и медленно пошел по коридору, длинному, как бесполезно прожитая жизнь. Потом вернулся к себе, молчаливый и постаревший. Сидел, отгородившись от всего мира, пил вино, пил и думал, пил и морщил лоб, задавая себе вопросы, снова пил. «Зачем все это? — спрашивал он себя. — Зачем? Зачем эта жизнь, это суетливое и суетное передвижение во времени и пространстве? Зачем этот шелк халата, эта чуждая ему роскошь, зачем дворец, нелепые церемонии новой жизни?.. Зачем жирная, пряная пища, золото и серебро? И эти бесконечные и бесполезные попытки что-то спасти, кого-то убедить, чего-то не допустить, предотвратить…»
Задавая себе эти вопросы, он пил — час, два, три, сутки… Но не пьянел. Даже этого ему было сейчас не дано. Потому — понял Ду Фу, — что он изменил себе. Он изменил своему призванию, ушел к сильным мира сего. Так он потерял себя, свою точку опоры — потерял, не приобретя ничего взамен. Ничего он не приобрел такого, что было бы ему дорого, о потере чего он стал бы сожалеть, — кроме девушки по имени Ин Лань.
Она пришла к нему как незаслуженная награда, и за это он любил ее. Она попыталась спасти его из этой беды, в которую он попал наполовину по своей воле, отдавая ему все, что имела, — себя.
Ду Фу снова провел рукой по ее удивительной нежной коже. Маленькая девочка, которой так не терпится повзрослеть.
Девушка коротко вздохнула во сне, Прижалась к его руке, еще раз вздохнула. Не отрываясь, смотрел на ее полудетское лицо Ду Фу. Колебался свет ночника.
Неслышно ступая, он прошел в маленькую комнатку за спальней. Вернулся оттуда переодетым в простое прочное пеньковое платье простолюдина. Он не взял с собой ничего, ни одной вещи из своих новых богатств — только яшмовый прибор для письма, перешедший ему по наследству от отца. Все остальное он оставлял здесь. И эту девушку…
Она спала, счастливая и удовлетворенная, ничего не ведая, ничего не зная, — прообраз истинного счастья, ибо самое настоящее счастье, — думал он, — счастье неведения.
Ду Фу повернулся и пошел. И вернулся. Ничто не шелохнулось в теплом воздухе уснувшей комнаты. «Я вернусь к тебе, Ин Лань», — пообещал он. Кому он обещал это — ей? Или себе?
И тогда он ушел совсем.
Охрана, привыкшая к причудам своего хозяина, безропотно пропустила его из дворца на улицу.
Был час третьей стражи. У ворот заспанный сторож лениво переругивался с крестьянами, спешившими выйти из города пораньше, чтобы успеть проделать часть пути еще до дневной жары. Сторож, пересчитав медные деньги, загремел засовами и выпустил собравшуюся толпу.
Вместе с ними в простой потертой одежде с узелком за спиной покинул столицу Китая Чанъай, человек по имени Ду Фу — сначала мелкий чиновник, потом — не прижившийся при дворе поэт, затем изменник, Доверенный советник и министр, потом убийца, теперь — бродяга. Путь его был далек и тяжел, он длился без перерыва почти четырнадцать лет, пока, наконец не привел его — больного и старого — на берега быстрой холодной реки.
Глава третья
Теперь он возвращался долгой.
Домой, в Чанъань.
На этот раз — навсегда.
Ворота крепости Чанша раскрывались медленно, со скрипом, словно им было лень совершать даже такую несложную работу ради того, чтобы пропустить в город весь этот пестрый сброд, толпившийся и оравший в клубах коричневой пыли у высоких стен. Два стражника, держа в одной руке саблю, а в другой копье, не спеша вышли вперед и стали по обе стороны ворот. За ними появился заспанный чиновник в мятом халате; в руках он держал большую деревянную чашку для сбора налога. Лицо чиновника, всегда одутловатое и красное от чрезмерного употребления различных напитков, сейчас было неприступным и даже возвышенным от сознания важности настоящей минуты. Чиновник любил свою службу, кое-кому казавшуюся незавидной, именно за такие вот мгновения, когда он был властелином и повелителем всей этой толпы, жадными глазами взирающей на оазис за его спиной. Сладкие мгновения неограниченной власти!
Сегодня все было как обычно.
Народ толпился и лез. Молчаливые стражники сноровисто били по спинам древками копий. Порядок должен быть, порядок. А ну, осади назад! Назад, еще! Ревели ослы, плакали дети. Язык тяжело ворочался в пересохшем рту:
— Ну, что там впереди? Они пустят нас наконец?..
— Наведите порядок!
Передние верблюды пятились, толкая задних, пыль поднималась к солнцу, застилала его, мешая дышать, видеть, думать, — опускаясь, она оседала на лица, въедалась в кожу, проникала в легкие. Пот, протекая через этот бурый слой, осевший на лицах, оставлял неровные, извилистые следы.
В криках и гаме проводники каравана безуспешно пытались навести порядок. Чиновник брезгливо морщился — всегда у этих остолопов одно и то же. Однако он ждал терпеливо — свое он получит все равно. Караван пятился назад, еще назад и еще, растягиваясь на сотни шагов: хвост каравана совсем утонул в пыли.
Наконец разобрались. Первые монеты, словно капли дождя, упали на заждавшееся пустое дно большой чашки. Чиновник из-под опущенных век цепко смотрел, не попытается ли кто-нибудь, спрятавшись среди поклажи, проскочить без пошлины. Дождь из монет падал не переставая, звук соприкосновения металла с металлом приятно отзывался в душе чиновника — примерно каждая четвертая монета перекочует в его собственный карман. Вскоре вместо наполнившейся чашки принесли другую — караван был большим. Передние верблюды, вращая фиолетовым измученным зрачком, уже ложились на базарной площади, а конец каравана еще только подходил к воротам. Чиновник трудился, чашка, стоявшая у его ног, была уже четвертой по счету.
На последней повозке, запряженной двумя полувысохшими мулами, лежал Ду Фу. Он лежал на боку, в неудобной позе. Сквозь грязные лохмотья проглядывало голое тело. Два дня назад на караван, с которым он шел, напали уйгуры. Всех, кто сопротивлялся, они убили, тех, кто представлял хоть какую-нибудь ценность, угнали с собой. Стариков вроде Ду Фу они не стали даже убивать, они просто сняли с них все и так оставили — сами подохнут. У Ду Фу они отобрали старый халат вместе с зашитыми в подол золотыми монетами и векселем, а также отцовский яшмовый прибор для письма. Что было дальше — он не помнил: тяжелый удар по голове свалил его на землю. Там его и подобрал какой-то сердобольный бедняк, ехавший в Чанша, к брату жены, — брат жены был большим человеком, он служил старшим поваром у коменданта гарнизона и обещал помочь с работой…
Наконец повозка въехала в ворота. Стражники толкали их, закрывая. Чиновник, разминая уставшие ноги, подошел поближе. Ткнул в голое, просвечивающее сквозь лохмотья тело концом палки.
— А это еще что за падаль? У нас своих покойников много.
Муж сестры повара, заикаясь, объяснил, что нашел старика без сознания на том месте, где недавно уйгуры напали на караван.
До чиновника дошло слово «уйгуры». Уйгуров он терпеть не мог — все сплошь жулики, мерзавец на мерзавце, считал он. Их пригласили подавить мятеж Ань Лу-шаня, а теперь уже восемь лет неизвестно, как от них избавиться. Сбившись в большие банды, не подчинявшиеся никому, уйгуры все эти годы рыскали по дорогам, грабя плохо защищенные караваны, — чиновник считал, что таким образом они делают беднее лично его: много ли пошлины соберешь с разграбленного каравана?
— Ладно, — сказал чиновник, услыхав про уйгуров, и без любопытства посмотрел на измученное лицо Ду Фу. — Ладно. Плати налог за въезд и проезжай. Проклятые мошенники эти уйгуры! А вы, бездельники чертовы, поживей запирайте ворота!
И он ушел в помещение — считать сегодняшний доход: это пошлинный сбор, это инспектору по налогам, это губернатору города, это ему самому.