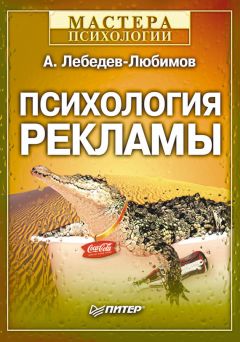— Новые ракеты… Гм… Превосходная вещь, должно быть… — пробормотал он невнятно. — Какой, интересно, маневр делают ребята, чтоб увернуться от этой превосходной вещи? — И Карцев задумчиво потер ладонью подбородок.
Коль уж оказался в Нефтедольске, то надо и Середавина навестить. Что бы ему такое отнести? С пустыми руками неудобно являться в больницу.
Карцев задумался. Сам он никогда не хворал, в больницах не лежал, в диетах и рационах лечебного питания не разбирался. Рассудил: ежели человек не страдает животом, то, стало быть, ему любой доброкачественный продукт годится.
На рынке нашлись антоновские яблоки, продавался и ташкентский виноград, пахнувший нагретым песком, и грузди, крепко приправленные чесноком. Карцев купил всего этого и добавил еще кусок сала в ладонь толщиной — любимое лакомство мастера. Селедка пряного посола вызывала некоторые сомнения, поэтому вместо нее Карцев присовокупил к передаче бутылку коньяку.
Уложив в авоську приобретенные продукты, он отправился в больницу.
Сухая, недоступного вида служительница, осмотрев содержимое, язвительно поинтересовалась: не ошибся ли посетитель адресом? Забегаловка, дескать, находится через квартал за углом…
Карцев, не оценив юмора служительницы, заверил ее вежливо, что содержимое авоськи предназначено для больного нефтеразведчика Середавина.
— Тем более, — продолжала она с преувеличенной любезностью, — я не могу принять ваш набор закусок, поскольку больной Середавин еще третьего дня выписан на амбулаторное лечение по месту жительства.
— Серьезно?
— Абсолютно! Вас это огорчает, я вижу?
— Ничуть, — успокоил ее Карцев и, обменявшись несколькими подходящими к случаю любезностями, покинул больницу.
Где живет Середавин, он не знал. Пришлось завернуть в контору навести справку, затем уж топать на южную окраину города.
Перед двухквартирным деревянным домом, указанным в адресе, — садик, разделенный пополам заборчиком из штакетника, кусты обгрызенной сирени. Слева возле конуры кудлатый пес лакал из старой каскетки. «У Середавина, — решил почему‑то Карцев, — собаки быть не может». Он направился к правому крыльцу, распахнул дверь внутрь, и сразу же потянуло знакомым холостяцким духом.
Середавин лежал на железной солдатской койке под одеялом и смотрел в потолок. Серые волосы всклокочены, на лице — недельной давности щетина.
Кроме койки в комнате возле окна приткнулся стол, покрытый клеенкой, рядом с ним — верстачок с набором инструментов. Две–три табуретки, умывальник в углу… Вот, собственно, и вся мебель. Убого и уныло. Зато все стены от потолка и чуть ли не до пола обвешаны разнокалиберными часами. Глаза разбегались от их множества.
Карцев слышал от Бека о своеобразной коллекции мастера, но не предполагал, что в ней столько экспонатов. Казалось, тут собрано все, начиная от часов Гюйгенса и кончая наисовременнейшими транзисторными.
Подойдя к Середавину, Карцев пожал его правую руку с заскорузлыми пальцами. Левая лежала неподвижно поверх одеяла.
— Чего пришел? — спросил тот недружелюбно. — Посмотреть, не окочурился ли Середавин? А я, вишь, дышу. И музыку слушаю. Самую распрекрасную на свете! — показал он на тикающее, мельтешащее маятниками царство часов.
— Проведать вас пришел, Петр Матвеич, — сказал как можно мягче Карцев, выкладывая на стол гостинцы.
— Это ты ни к чему… — буркнул Середавин.
Карцеву бросились в глаза костлявые, обтянутые одеялом ноги мастера, застывшая рука. Подумал: «Как быстро он сдал, оказавшись в стороне от привычной жизни!»
— Ну, ладно, садись, мастер буровой, хо–хо… Не иначе, явился благодарности от меня выслушать? Ждешь, мол, Середавин вскочит и в ножки брякнется? А я вот не брякнусь. Не хочу. Потому, что лучше сгнить, как падлу, в Пожненке, чем стать калекой!
— Зря вы паникуете, Петр Матвеич. Болезнь ваша пройдет, и вы еще вернетесь в строй. А мне никакие благодарности не нужны.
— Вернетесь! А сами небось рады до смерти, что избавились наконец… Тебе‑то уж выдали медаль за спасение утопающих? — ухмыльнулся Середавин.
— Как же мне было поступать, когда я сам сбросил вас в воду? Вот уж не ожидал, что вы… — покачал Карцев головой с обидой. — Поистине, гневливой Наталье все люди канальи… Тяжелый вы человек.
— А–а! Тяжелый… Придет твой час—будешь и ты тяжелый. И с тобой так поступят!..
— Как поступят?
— На мусорник, вот как!
— Нет, Петр Матвеич, вовсе не так. И обо мне не так вы думаете. Верно, я вас недолюбливал немного за ваш… гм… характер, а как специалиста ненил и ценю. Если ж говорить по правде, то вряд ли вы станете утверждать, что обожали меня… Тут мы, как говорится, квиты Дело прошлое, стоит ли его мусолить? Жизнь слишком коротка, чтобы помнить все обиды. Мне жаль вас по–человечески и хочется оказать вам посильную помощь.
Карцев старался успокоить Середавина, придать ему бодрости, но тот с какой‑то мрачной одержимостью продолжал растравлять себя болезненными картинками безрадостной будущей жизни, приплетая истинные и мнимые обиды. Это было для него, видимо, как пластырь.
— Я тяжелый! Я плохой! Да, да! — выкрикивал он сварливо и мстительно. — Если бы я водил на прогулку псов, вычесывал блох у паршивых кошек да сыпал крошки голубкам на виду у народа, тогда все ахали б: ну что за душа добренькая у Середавина! А ежели у него только и дела что шевелить мозгой день и ночь, чтоб дать заработать безмозглым олухам, — он тяжелый! Еше бы! Кому обязан, тот всегда плохой. А мне все обязаны, для всех вас делал!
— Для всех, Петр Матвеич, проще… Сделать что‑то конкретное для одного гораздо труднее. Вот. Но чтобы два рабочих человека не могли понять друг друга, чтобы два мужика не нашли друг к другу пути, того быть не может. Я не ругаться пришел и не злорадствовать по случаю вашего несчастья.
— Вчера Валюха приходила, распиналась, а теперь ты… Утешают, как дурачка несмышленого.
— Я не утешать, а выпить с вами пришел по стопке и потолковать. Но если так, то что ж… можно и поворот от ворот…
— Выпить… Рад бы в рай, да грехи не пущают. Точка. О чем толковать хочешь? Говори.
— О том, что вы несете черт знает что! Будто и не нужны вы никому, и ненавидят вас все…
— А то нет? — вскинулся опять Середавин. — Уж не я ли сам приготовил приказ о своем увольнении?
— Бросьте, Петр Матвеич, вы лучше меня законы знаете. У нас больных, а тем более пострадавших на производстве, не увольняют.
Середавин сел, опустил медленно ноги на пол и молча уставился на них, поникнув головой. Так сидел он довольно долго.
«Да, крепко подсекла его болезнь», — подумал Карцев еще раз, глядя на его запавшие, с редкими волосами, виски.
Середавин не преувеличивал свои страдания, но страдает он не только от местного паралича, «атрофии левых конечностей», как указано в больничном листе, сколько от жуткого, невыносимого одиночества, на которое сам себя и обрек. К труду не способен, семьи, по существу, нет, отгородился от всех забором тикающих часов, вот и попробуй найди щель, дотянись до его души!
Всякие чудаки встречались в жизни Карцева, но Середавин, кажется, любому даст сто очков вперед.
Карцев решил: раз уж оказался в его доме, то надо хоть по хозяйству помочь бедолаге.
Квартира Середавина, как большинство жилищ в поселках и деревнях вокруг Нефтедольска, отапливалась газом. Система простая, как гвоздь. Расплющенный конец трубы от газопровода вставлялся в печную дверку, и вся тебе техника. Открывай вентиль, подноси горящий жгут и заревет так, что, того гляди, печь разнесет.
А вот с водой дело обстояло сложнее: носить от колонки, что через три дома у перекрестка, Середавину не под силу.
Карцев взял ведра, отправился за водой. Заодно решил купить в палатке свежего хлеба.
Вернувшись обратно, он застал у Середавина Валюху. Она деловито хлопотала у стола, на котором лежали выпотрошенная утка, овощи и пачка денег. Карцев поздоровался. Валюха ответила, но не оглянулась — продолжала заниматься стряпней. Ее сильные руки с округлыми запястьями мельками привычно над столом. Двигаясь туда–сюда, она словно поддразнивала Карцева красотой своего пышного тела.
Он отвернулся к окну, присел, вслушиваясь в разговор. Голос Валюхи звучал то просительно, то по–домашнему ворчливо.
— Вы просто напраслину возводите на себя, Петр Матвеич, — говорила она. — Ни в жизнь не поверю, чтоб вам на самом деле так думалось. Ну, почему Хвалынский благотворитель? Он директор, и довольно строгий. Не он, а государственный бюджет предусматривает специальные фонды для больных. Не личность, а правительство, — внушала Валюха терпеливо. — Ничего себе подачка — двести рублей^ — толкнула она пачку на край стола. — Если всем так станут подавать, то, пожалуй, есть смысл в нищие записаться…