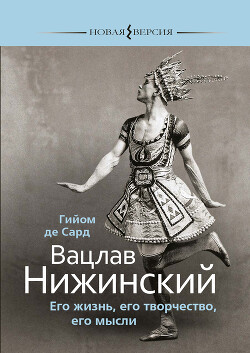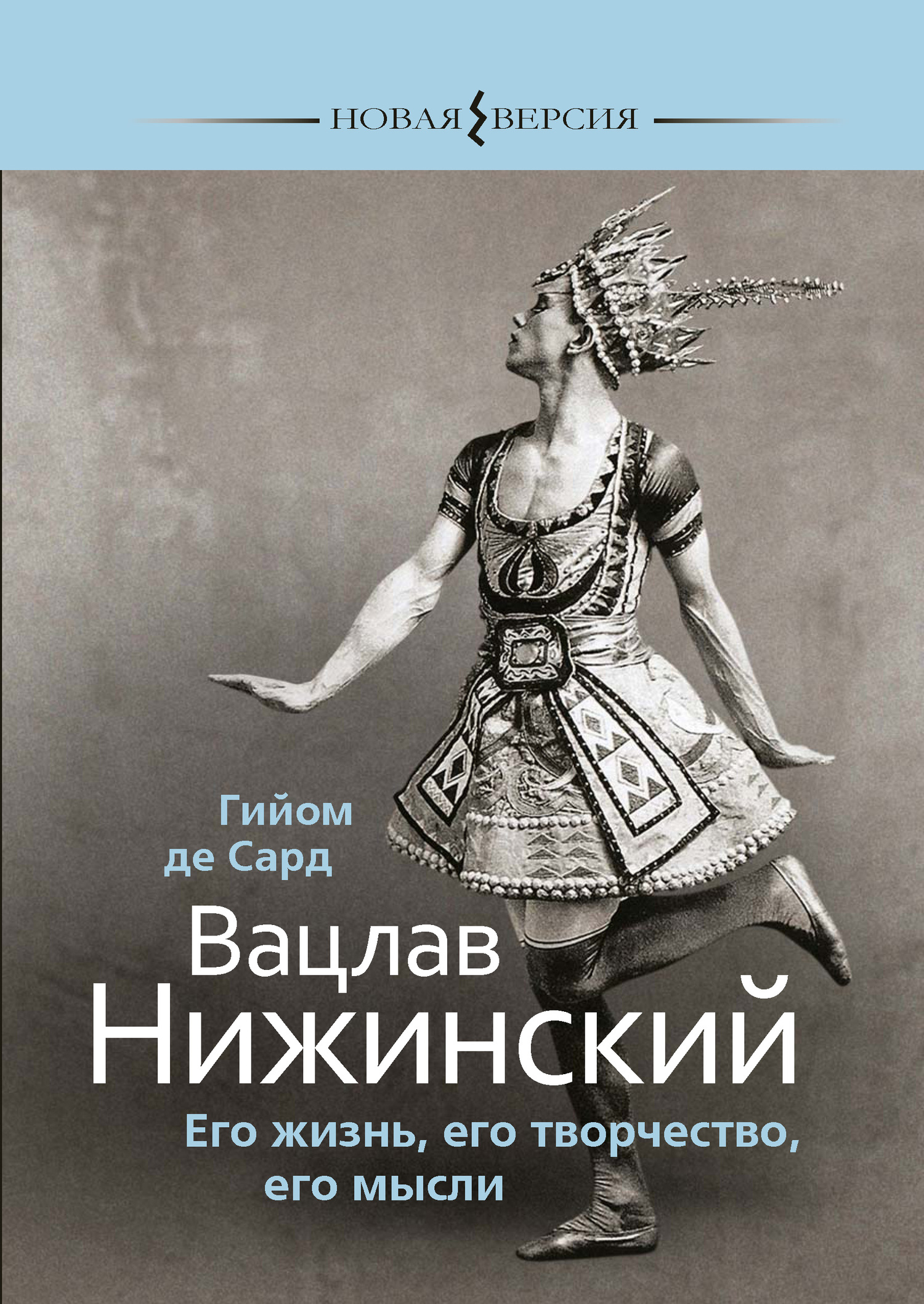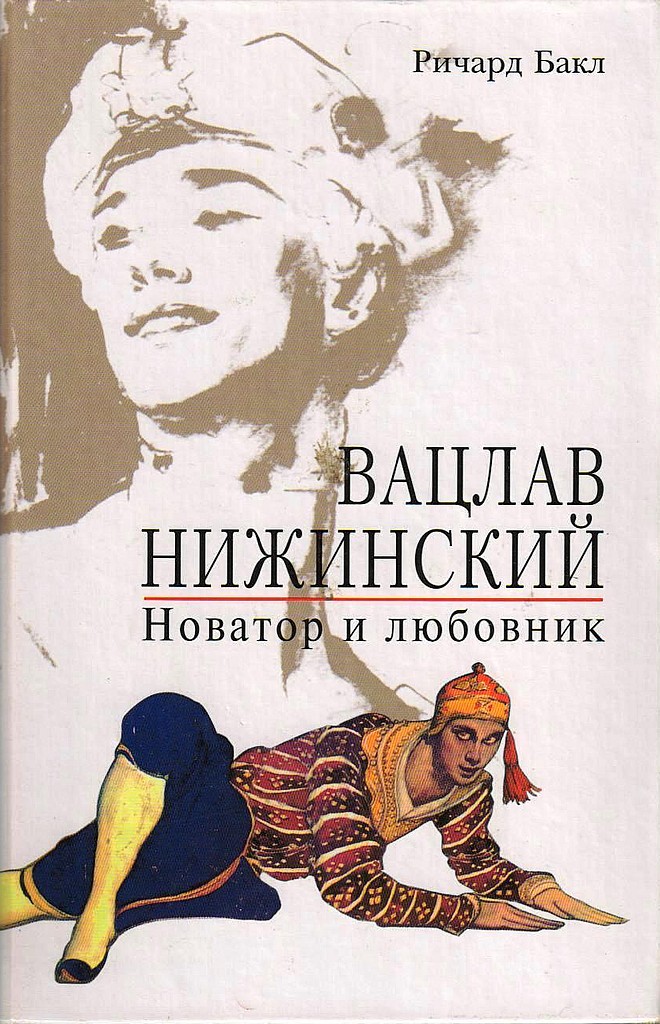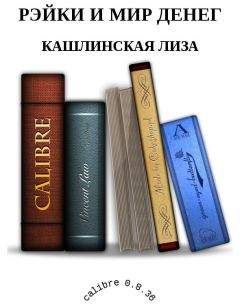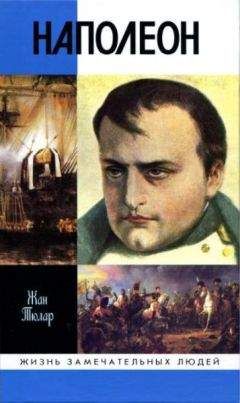Дягилев принадлежал к тем сложным натурам, суть которых определяют их противоречия. Взять хотя бы его физические данные. На первый взгляд он казался высоким человеком, но на самом деле имел средний рост. Он выглядел представительно благодаря красивой посадке необыкновенно большой головы и такой же необыкновенной широте плеч. Нижинский напишет просто: «У него голова больше всех». Поэтому, глядя на Дягилева, казалось, что он носит самую маленькую шляпу в мире. Любая шляпа была мала для такой огромной головы. [45] У него были дрябловатые щеки и чуть выпяченная нижняя губа, которую он постоянно закусывал. Над верхней губой красовались небольшие усы. «Выражение лица его было одновременно угрожающим и привлекательным, как у бульдога» (Бронислава). Эта противоречивость отражалась и в его больших черных, влажно поблескивавших глазах, которые, по словам сестры Вацлава, «смотрели грустно, даже когда он улыбался».
Он носил прекрасно скроенные костюмы, цилиндр и монокль, придававший его внешности импозантности. И хотя ему была присуща некая отстраненность, связанная с необыкновенно высоким самомнением, он прибегал к аффектациям разного рода. Самовлюбленность его иногда доходила до ребячливости и временами становилась смехотворной. Например, когда Бакст работал над его известным портретом, Дягилев, не удержавшись, попросил изобразить его покрасивее. В письме к семье, датированном июнем 1904 года, художник пишет:
Сегодня все прошло ужасно. Дягилев постоянно вскакивал с места и заходил мне за спину, чтобы посмотреть на картину, и просил меня нарисовать его красивее. Я чуть было не побил его. Больше не позволю ему вмешиваться в мою работу.
Дягилев тщательно заботился о своей внешности, как Барбе д’Оревильи и Оскар Уайльд. Он так причесывался, чтобы, как говорил Нижинский, заметили серебристую прядь в его волосах, окрашенных в черный цвет. В «Тетрадях» Нижинский пишет, что на наволочках подушек Дягилева оставались следы черной помады, которой тот натирал волосы. За эту седую прядь в тщательно причесанных темных волосах танцовщицы прозвали его Шиншиллой.
Дягилев не был красив, но он обладал притягательной силой. Это было так же противоречиво, как и все в нем, но его харизме было невозможно сопротивляться. Карсавина говорит о «магнетизме», объясняя воздействие обаяния Дягилева на любого, кто с ним встречался. По словам Брониславы, которая считала его «ужасно привлекательным», он был человеком, который «захватывал воображение». Он был очаровательным и властным одновременно и «оказывал влияние на умы и волю всех тех, кто оказывался вовлеченным в сферу его деятельности» (Карсавина). Дягилев умел нравиться и даже знал, как подчинять себе. Это был дар, который он пестовал. Увлекшись поисками наилучшей стратегии поведения, он стал вести себя не совсем естественно. По этому поводу Нижинский написал: «Все улыбки Дягилева сделанные».
Человек очень тонкий, Дягилев, тем не менее, был способен на фиглярские розыгрыши и грубые шутки. К примеру, не довольствуясь лишь фамильярным обращением с Мизией Серт, своей близкой подругой, он однажды шутки ради засунул ей банан в декольте. Нижинский считал, что Дягилев – человек исключительный и что у него удивительный характер.
Характер у Дягилева был противоречивый. Хотя он, в основном, был спокойным и уравновешенным, иногда у него случались приступы бешеной ярости. Им двигали две основные силы: страсть и темперамент.
Бронислава описывает его как энтузиаста, энергичного и решительного. Дягилев не подчинялся никаким правилам, кроме собственных волевых решений. А воля у него была, по словам Астрюка, «железной» («Фигаро», 2 мая 1909 г.). Игоря Стравинского тоже поразили «выдержка и упорство, с какими он [Дягилев] преследовал свою цель». [46] А Шанель говорила Полю Морану: «Со дня знакомства и до того дня, когда закрыла ему глаза, я ни разу не видела, чтобы Серж отдыхал». [47] Когда готовилась новая постановка, ему иногда приходилось часами находиться рядом с художниками или рабочими сцены, не помышляя об отдыхе. Его «организаторские качества» подкреплялись «невероятной работоспособностью» (Карсавина), чего нельзя было вообразить, зная его вальяжную манеру поведения.
Хотя для многих Дягилев служил воплощением сильной воли и твердости характера, принятие решений давалось ему непросто. Это еще одна из присущих ему странностей. Он был довольно впечатлителен, разнообразные слухи и чужое мнение сильно влияли на него, заставляя сомневаться в правильности сделанного шага. Тем не менее стоило ему увериться, что произведение нравится элите художественного мира, и в его глазах оно бесповоротно приобретало высокую значимость. Но, подчеркивает Бронислава, «перед своими коллегами он держался твердо как скала». Поэтому массовый успех его интересовал мало. Сам он говорил: «Успех постановки предсказать нельзя; меня, прежде всего, интересует ее художественная ценность». Охваченный страстью творчества, «он сразу терял интерес к уже сделанному, и даже успех уже осуществленной постановки его не занимал» (Кохно).
И тем не менее Дягилев не был лишен тщеславия. Но он не просто наслаждался успехом, как большинство. Известно, например, что ему нравилось, когда его сразу замечали в толпе. Он носил монокль, хотя совершенно в нем не нуждался, оставлял на виду белую прядь. Нижинский писал о нем: «Дягилев думает, что он Бог искусства». В этой фразе – весь Дягилев.
Но для бога Дягилев был чересчур экстравагантен. «Этот гениальный художник» на самом деле часто «тратил во славу музыки и танца деньги, которых у него не было, но иногда носил по вечерам потертый фрак и сомнительного вида лаковые туфли»; [48] брюки его иногда были заколоты английскими булавками. Сам он как-то признался:
Я бы мог заработать миллионы, вновь и вновь показывая «Петрушку», жить за счет «Шахерезады», как другие живут за счет «Доктора Миракль» и «Летучей мыши», но я больше люблю получать удовольствие от работы. [49]
И действительно, Дягилев несколько раз оказывался на грани разорения, не сумев отказать себе в удовольствии показать хороший спектакль. Представить публике новую звезду – вот единственная роскошь, которую он себе позволял. Это объясняет, почему он любил, чтобы его называли меценатом, а не импресарио. Борис Кохно впоследствии напишет:
Не отказываясь в принципе от личной собственности, Дягилев в годы, проведенные в Европе, не имел при себе ничего, кроме двух дорожных чемоданов, подаренных ему Нижинским и Мясиным. Содержимое этих чемоданов нисколько не нарушало бездушный порядок гостиничных номеров, в которых он жил: туда в любой момент мог въехать новый постоялец. [50]
Он вращался в мире идей, цветов, страстей и банковских билетов, но после смерти не оставил ничего, кроме пары запонок Сержа Лифаря: они поменялись запонками однажды вечером, когда вместе пили пиво. Василий, его верный слуга, любил повторять, что у Дягилева никогда не было ни копейки, но ум его стоил целое состояние. А Стравинский вспоминает о его необыкновенной щедрости:
Это была натура подлинно широкая, великодушная, чуждая всякой расчетливости. И уж если он начинал рассчитывать, то это всегда означало, что он сидит без гроша. И напротив, всякий раз, когда он бывал при деньгах, он становился расточительным и щедрым. [51]
Шанель говорит почти то же самое: Дягилев «сначала был щедр, потом скуп, а потом вдруг снова принимался проматывать деньги». [52] Ларионов, который тоже пишет о Дягилеве как об «очень щедром» человеке, рассказывает такой анекдот. После организованной Дягилевым в 1906 году выставки в Париже его хотели наградить орденом Почетного легиона, но он отказался, заявив, что формированием экспозиции занимался Бакст и что это его следует наградить. Вот так Бакст получил орден Почетного легиона. [53]