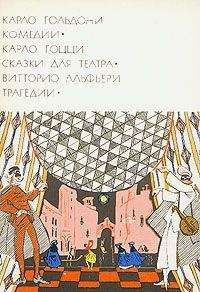– Светские женщины также красивы как эти… и ничего не стоят, – на первый раз!.. Моя любовница рассказала мне, что у ней было воспаление легких и ей не на что было купить пиявок, предписанных ей доктором… Я чуть было не взволновался более, чем этого требовала вежливость, когда подумал о страданиях, которым есть на что скупить пиявок со всего мира… Все дело в том, чтобы знать, страдает ли человек, умирая от честолюбия или от любви, столько же, чем когда он умирает с голода? Что касается меня, я этому верю.
Вчера я встретил у бывшего министра одного из своих старых школьных товарищей, готовящегося быть государственным человеком. Он весь вечер присутствовал при разговорах шестидесятилетних стариков, не раскрывая рта и серьезный как доктринер, который пьет. – Человек будущего! – сказал себе старый министр, – он слушает с такой глубиной!
Я всего больше люблю неофициальных гениев. Кавой путь от дикаря к Рембрандту и Гофману! Самый удивительный разврат, если хотите.
Сегодня я видел примерную любовницу, любовницу молодого немца, итальянку, настолько привязанную к своему чахоточному любовнику, что она не пускает его выходить по вечерам, запирается с ним, болтает, куря папироски, читает, полулежа на кресле, выставляя кончик белой юбки и красные кисточки своих туфлей. Бывают у них двое или трое немцев со своими трубками, с двумя-тремя гегелевскими идеями и с большим презрением к французской политике, которую они называют «сантиментальной политикой». Хозяйка квартиры и днем и вечером очень редко выходит. Она сохранила в Париже привычки итальянской женщины, и чтобы заняться, она выбирает из «Constitutionnel» недлинный роман и переводит его только для себя, на чистейший тосканский язык. Обстановка восхитительная. Но через-чур много портретов друзей и родственников. Это походит на храм Дружбы… Из всех этих портретов единственный интересен с моральной точки зрения: это портрет любовницы, сделанный матерью любовника.
Январь.
Париж – это надменное выметание фортун, это – смерть для молодых людей!.. И так скоро, без всяких приключений, без всякого шума! Ах, бульвар так быстро поедает этих гарцующих прожигателей жизни. Один год, два – самое большое и… прогорели! Встречаю как-то одного из старых друзей, уплатившего вовремя свои долги, пустившего корни в провинции, и проводящего день за днем в деревне.
– А как поживает такой-то? – спрашиваю я.
– У него судебный совет… Он занимал под четыреста процентов у господ, встречавшихся с ним на скачках… Ах сколько он самым глупым образом потратил денег!.. А другие-то!
– А тот, толстяк, которого я часто видал у тебя?
– Женился, мой милый… случайность!
– А другой, такой веселый?
– Удалился в Дордонь, к чёрту, на свою оставшуюся ферму вместе со своей любовницей… Играет в пикет со священником.
– А Шоза ты знаешь?
– Ах, Шоз, он кончил особенно: он себе прострелил голову!.. Один выстрел – и конец! Это вследствие различных катастроф, нищеты и разорения.
Пошел я в «Monde des arts» отдать туда статью. Там нахожу Массона, человека, которого я узнал только по книгам, и которого уже любил, восхищаясь им. Полное, несколько тяжеловатое лицо, на котором заснула божественность; в глазах замечательный ум, как бы дремлющий в ленивом и спокойном взгляде; на всем лице усталость и сила Титана на покое.
Большой, черный господин восклицает стоя около него:
– Да, такова моя система работы: я ложусь в восемь часов, встаю в три, выпиваю две чашки черного кофе и работаю до одиннадцати…
Масон, как бы проснувшись, возразил:
– О, я бы сошел с ума от такой жизни! Утром меня будит сон, будто я голоден. Мне снится красная говядина, огромные столы с роскошными яствами… Говядина подымает меня. Позавтракав, я курю. Я встаю в половине восьмого и к одиннадцати часам я готов. Тогда я притаскиваю кресло, кладу бумагу на стол, перья, чернила, орудия пытки; мне надоедает это! Мне всегда надоедало писать и к тому же это так бесполезно!.. Таким образом я важно пишу, как общественный писатель… Я не тороплюсь – он видел, как я пишу, но все же я подвигаюсь, потому что не ищу лучшего. Статья хороша, написанная с одного раза, это как ребенок: или он есть, или его нет. Я никогда не думаю, о чем я напишу. Я беру перо и пишу. Я литератор и должен знать свое ремесло. Перед своей бумагой я как клоун на канате… Кроме того, у меня слог совершенно в порядке: я бросаю фразы, как кошек… Я уверен, что они встанут на лапы. Это очень просто, надо только иметь хороший слог. Я готов научить писать кого угодно: я бы мог открыть курс фельетонов в двадцать пять уроков! Да вот, посмотрите, мою рукопись: ни одной помарки… А! Флориссак; что же ты ничего не принес?
– Ах, мой милый, – отвечает Флориссак, – это смешно, у меня нет никакого таланта… и я узнаю это потому, что меня забавляют теперь только глупые вещи… Это глупо, я знаю; что ж, ничего, я смеюсь над этим…
– Однако ты был талантлив…
Июль.
Птица поет трели, светлая гармония капля по капле льется с её клюва; трава высокая, полная цветов и шмелей с золотистыми спинками, белня и коричневые бабочки. Самые высокие цветы качают свои головки под ветром, который наклоняет их; лучи солнца, протянувшиеся через зеленую дорогу; плющ, обвивающийся вкруг дуба, подобно ниткам Лилипутов вокруг Гулливера; между листвой просвет белого неба; пять ударов колокола, приносящих людям из-за чации час отдыха на зеленой и мягкой траве; в лесу крики птиц, мошки, летающие и жужжащие вкруг меня, лес полон души, шепчущей и жужжащей; вдали слышен громкий лай; небо, освещенное заходящим солнцем… И все это надоедает мне, как описание природы…
Может быть, виноваты эти две собаки, которые играли на траве передо мною: они остановились, чтобы зевнуть…
Март 185…
Снова увидел Масона в редакции «Monde des arts». Сказал мне комплимент за мою статью об Алжире; и с удивительной памятью начал мне описывать, начиная с двери и кончая банкой с красными рыбами, поставленными на стол перед музыкантами, кафе Жираф и улицу État-Major, o которых я сказал два слова, потом он мне сказал:
– Вашу статью не поймут. На сто человек, которые ее прочтут, едва ли поймут двое… Тут все они взбешены против вашей статьи… И это просто происходит оттого, что массе людей, даже умным людям, не хватает артистического чутья. Многие люди не видят. Например, из двадцати пяти человек, которые пройдут здесь, может быть, нет и двух, которые видели бы цвет бумаги. Постойте, вот входит Бланшар. Он ни за что не заметит, круглый этот стол, или четырехугольный… Теперь, если вы с этим артистическим чутьем работаете в артистической форме, если к идее о форме вы прибавляете форму идеи… о, тогда, вы совсем не поняты…
И взяв наудачу маленький журналец, он продолжал:
– Вот, смотрите, как надо писать, чтобы быть понятным: «новости под рукою»! Французский язык исчезает, это факт… Э, Боже мой, в моих романах, мне говорят также, что не понимают… А между тем я себя считаю самым понятным человеком в мире… Потому что я ставлю слово, положим: «архитрав»… но не могу же я написать: «архитрав» есть архитектурный термин, который значит то-то и то-то… Надо, чтобы читатель знал слова… Да мне это все равно. Критики и похвалы хвалят и разбивают меня ни на йоту не понимая, что я такое. Все мое достоинство, они никогда не говорили о нем, состоит в том, что я человек, для которого существует видимый мир.
Реализм распространяется и гремит, в то время как дагерротип и фотография доказывают, насколько искусство разнится от правды.
Вот я осуществляю мечту многих людей; с деньгами в кармане, с женщиной, старой подругой, рассказывающей мне о своих любовниках; оба свободные, не боящиеся любви, ни тот, ни другой, и совершенно довольные. Приятные минуты – видеть ее в своей комнате, углубленной в кресло в кофточке; тут виден кусочек шеи, там часть руки, здесь оттопырившаяся юбка; или, в лесу под листвой, со щеками загорелыми от солнца. В вуали с горошками, тень от которых кажется на её коже родимыми пятнышками; или же в уединенной аллее парка, лежащую с закинутыми руками, в венке, в платье, развивающемся вкруг нее и около её ленивой, белокурой головки, которой завидует проходящая торговка настойкой из лакрицы… Но женщина всегда женщина. И она превосходная, только у неё страсть рассказывать во время еды. Только что суп ей откроет рот, как уже из него льется безостановочно последний роман из «la Patrie». И это продолжается, пока не подадут овощи, часто даже до десерта. Удивительно то, что она ест, чудесно то, что кончает концом, несносно то, что она хочет быть понятой.
Мне грустно, и я слышу, как на мраморный камин с глухим шумом падают один за другим листки большего букета пионов; а над и под моей комнатой взрыв женского смеха.