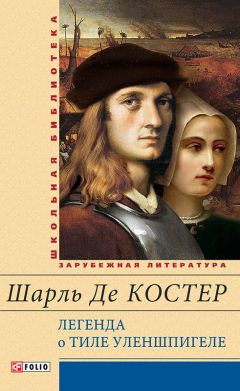– Это ты?
– Да, – отвечала она, – бегу за тобой с тех пор, как ты вышел из города. Пойдём со мной.
– Где же Катлина?
– О, ты не знаешь, что её пытали как ведьму и затем на три года изгнали из Дамме, что ей жгли ноги и паклю на голове. Я говорю это тебе, чтобы ты не испугался, когда увидишь её: она сошла с ума от боли. Часами смотрит она на свои ноги и приговаривает: «Гансик, мой нежный дьявол, посмотри, что сделали с твоей милой. Бедные мои ноги – точно две раны». И заливается слезами, говоря: «У других женщин есть муж или любовник, а я живу на этом свете как вдова». Тогда я начинаю уверять её, что её Гансик возненавидит её, если она кому-нибудь скажет о нём, кроме меня. И она слушается меня, как дитя малое; только как увидит вола или корову, бросается бежать от них изо всех сил: всё пытку вспоминает. И тогда не удержит её ничто – ни забор, ни речка, ни канава, – бежит, пока не упадёт от усталости где-нибудь на перекрёстке или у стены дома. Там я поднимаю её и перевязываю кровоточащие ноги. Я думаю, что когда жгли паклю на её голове, ей и мозги сожгли.
Удручённые мыслями о Катлине, они дошли до дома и увидели её на освещенной солнышком скамейке у стены.
– Узнаёшь ты меня? – спросил Уленшпигель.
– Четырежды три – святое число, – ответила она, – но тринадцать – это чортова дюжина. Кто ты, дитя этой юдоли страданий?
– Я – Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин.
Она подняла голову и узнала его; поманив его пальцем, она наклонилась к уху:
– Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны, как снег, скажи ему, Уленшпигель, – пусть придёт ко мне.
Потом, показав на свою сожжённую голову, она сказала:
– Больно мне. Они забрали мой разум, но, когда Гансик вернётся, он наполнит мою голову; она теперь совсем пустая. Слышишь – она звенит, как колокол, – это моя душа стучит в дверь, рвётся наружу, потому что кругом горит. Если Гансик придёт и не наполнит мне голову, я скажу ему – пусть дыру проделает ножом. Стучит моя душа, рвётся на свободу. Больно, больно мне. Я, верно, умру скоро. Я больше не сплю, – всё жду его. Пусть он наполнит мою голову. Да…
И она забылась и застонала.
И крестьяне, возвращавшиеся с полей, потому что вечерний колокол уже звал их домой, проходя мимо Кат-лины, говорили:
– Вон дурочка.
И крестились.
Неле и Уленшпигель плакали. И Уленшпигель должен был итти дальше в путь.
Тем временем, продолжая паломничать, он поступил на службу к одному человеку по имени Иост, по прозванью Квабаккер, то есть сердитый булочник – такая у него была злобная рожа. Каждую неделю Уленшпигель получал от хозяйки три чёрствых хлеба, а жилищем ему служил чердак под крышей, где здорово сквозило и лило.
В отместку за столь дурное обращение Уленшпигель устраивал хозяину всякие пакости. Вот одна из них. Если собираются печь хлеб рано утром, то просеивать муку надо ночью. Однажды в лунную ночь Уленшпигель попросил свечу, чтоб было видно, как сеять. Хозяин и говорит:
– Сей муку на лунном свету.
Уленшпигель исполнил приказание: стал сыпать муку на землю, освещенную лунным светом.
Утром пришёл хозяин посмотреть работу Уленшпигеля и видит, что тот всё ещё сеет.
– Что такое! – закричал он. – Или мука ничего не стоит, что ты её на землю сыплешь?
– Я сеял на лунном свету, как вы приказали, – ответил Уленшпигель.
– Осёл ты безмозглый, где же твоё сито?
– Я думал, что у вас луна – новоизобретенное сито. Но беда не велика – я соберу муку.
– Да ведь уже поздно месить тесто и печь хлеб.
– Хозяин, – сказал Уленшпигель, – у соседа на мельнице готовое тесто: сбегаю и принесу.
– Убирайся на виселицу, оттуда принесёшь что-нибудь!
– Иду, – сказал Уленшпигель.
Он побежал к месту казней, нашёл там высохшую руку казнённого и принёс её хозяину со словами:
– Вот тебе заколдованная рука, она делает невидимкой всякого, у кого она лежит в кармане. Вот ты и скроешь свою злость.
– Я пожалуюсь на тебя в общину, и ты увидишь, что значит нарушать права хозяина.
Когда оба они стояли перед бургомистром и булочник хотел уже начать перечисление многочисленных злодеяний Уленшпигеля, он вдруг увидел, что тот необыкновенно широко раскрыл глаза. Он пришёл в такую ярость, что прервал свои жалобы криком:
– Да чего тебе надо?
– Ты сказал мне, что я увижу, как тебя не слушаться. Вот я и хочу увидеть.
– Долой с моих глаз! – закричал булочник.
– Если бы я был на твоих глазах, я бы с них мог сойти только через твои ноздри.
Увидев, что тяжущиеся плетут какую-то чепуху, бургомистр отказался слушать их дальше.
Вместе они вышли на улицу. Булочник поднял палку, но Уленшпигель увернулся и сказал:
– Хозяин, ты хочешь колотушками высеять из меня муку: оставь себе отруби – это твоя злость; я возьму себе муку – это моё веселье.
Потом он повернулся к нему задом и прибавил:
– А вот тебе и печка, пеки что угодно.
Всё идя вперёд, Уленшпигель был бы рад, чтобы путь скрадывался для него, да булыжник по дороге был слишком тяжёл: не украдёшь.
Он направился наудачу в Ауденаарде[65], где стоял фламандский гарнизон, охранявший город от французских банд, опустошавших страну, как саранча.
Начальствовал над фламандскими рейтарами капитан по имени Корнюин, фрисландец по рождению. Они тоже рыскали по окрестностям и грабили население, которое, как это обычно бывает, страдало от обеих сторон.
Всё шло на пользу рейтарам – куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались, нагруженные добычей, капитан и его офицеры увидели на дороге Уленшпигеля, спавшего под деревом. Ему снилось тушёное мясо.
– Ты чем промышляешь? – спросил капитан.
– Умираю с голода, – отвечал Уленшпигель.
– Но твоё занятие?
– Богомолец за свои прегрешения, созерцатель чужой работы, плясун по канату, изобразитель красоток, резчик черенков для ножей, артист на rommel-pot и трубач.
Трубачом назвал себя так смело Уленшпигель потому, что слышал, что, за смертью последнего стражника, состарившегося на этом месте, должность трубача в замке Ауденаарде свободна.
– Будешь городским трубачом, – сказал капитан.
Уленшпигель отправился с ним и был водворён на самой высокой башне городских укреплений. Его помещение продувалось со всех четырёх сторон; только южный ветер веял при этом лишь одним крылом.
Он получил приказ трубить в трубу, как только увидит неприятеля, а так как для этого голова должна быть свободна и глаза открыты, ему давали не слишком много есть и пить.
Капитан и его наемники сидели в башне и целыми днями обжирались за счёт округи. Здесь убили и слопали не одного каплуна, единственным преступлением которого был его жир. Об Уленшпигеле вечно забывали, он питался пустой похлёбкой, и запах яств, подымавшийся к нему в башню, совсем не услаждал его. Нагрянули французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.
Капитан поднялся к нему наверх.
– Почему ты не трубил? – спросил он.
– Нечем было отблагодарить вас за вашу кормёжку, – отвечал Уленшпигель.
На другой день капитан и его наемники устроили большое пиршество, но об Уленшпигеле опять никто не вспомнил. Только пирующие успели разгуляться, как Уленшпигель вдруг затрубил.
Убеждённые, что идут французы, капитан с солдатами бросили еду и вино, вскочили на коней и помчались за город. Но они не нашли там никого, кроме вола, который жевал свою жвачку, лёжа на солнце, и забрали его.
А Уленшпигель в это время набил себе брюхо мясом и вином. Капитан по возвращении застал его у дверей столовой; он покачивался на ногах и насмешливо смотрел на офицеров.
– Это предательство – трубить тревогу, когда нет никакого врага, и не трубить, когда он перед тобой! – закричал капитан.
– Господин капитан, – ответил Уленшпигель, – в башне так дует, что ветер унёс бы меня, как пузырь, если бы я не вытрубил из себя дух. А хотите – повесьте меня хоть сейчас или в другой раз, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана.
Капитан вышел, не сказав ни слова.
Между тем пришло известие, что высокомилостивый император Карл со своей высокородной свитой собирается прибыть в Ауденаарде. По этому случаю городские власти снабдили Уленшпигеля парой очков, дабы он издали видел приближение его святейшего величества. Условились, что как только Уленшпигель увидит, что император направляется в Луппегем, в четверти мили от ворот Боргпоорта он трижды протрубит в свой рог.
Это давало обывателям возможность во-время зазвонить в колокола, приготовить фейерверк, поставить мясо на огонь и откупорить бочки.
Однажды около полудня – ветер задул с Брабанта, небо было ясно – Уленшпигель увидел по луппегемской дороге толпу всадников на играющих конях; их перья развевались по воздуху; некоторые держали знамёна. На горделиво поднятой голове всадника, ехавшего впереди, была парчёвая шляпа с длинными перьями. Он был в коричневом бархате с золотым шитьём.