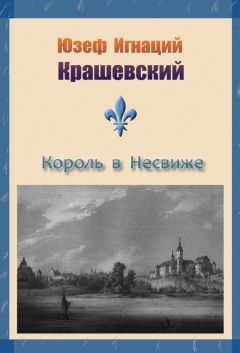– Будь, пан, уверен, – сказал он прерывистым голосом, – то, что между нами говорится, о том мир знать не будет. Ты всегда это, может, делал от доброго сердца, но, мой пане поручик, хоть я много перенёс, хоть ломаюсь под бременем, ещё мне, благодарение Богу, на ум не пришло жить чужой кровью и несчастьем.
Ухватился он обеими руками за голову и прибавил с возмущением:
– Всё-таки лучше на Пражский мост и броситься в Вислу. Всё кончится; но человек пойдёт на суд Божий с чистой совестью.
Поручик, вовсе не смутившийся, начал смеяться.
– Какой из тебя ребёнок! – сказал он. – Видел ты когда-нибудь, чтобы человек без ущерба для другого имел кусок хлеба? Ты думаешь, что на тех каретах, что на улице светятся, нет и крови, и пота чужого? Трава ест землю, вол ест траву, человек ест вола, такой это уж порядок; впрочем, пусть себе правительство берёт на свою совесть, что там хочет, я доношу, что вижу, и что мне до того! Виновный тот, кто на зло использует, а не я!
– Оставьте меня в покое, поручик! На такой хлеб я не пойду, не ел бы его, не переварил бы его, потому что меня стоны несчастных бы задавили.
– Подождите-ка ещё пане Мацей, – сказал поручик. – Вы честный человек, вам могу это искренне поведать. Не с сегодняшнего дня это моё ремесло, я уговаривал себе много товарищей, но всегда изначально так бывало как с вашей милостью, лишь голод надоест – разум приходит. Уклоняется человек, уклоняется, потом меняет мнение и принимает. Мне жаль тебя, даю тебе неделю на раздумье… а потом увидишь меня.
Он отпил немного кофе, покурил сигару и добавил:
– Мне не нужно вас предостерегать, что если проболтаетесь, то сгниёте в тюрьме. Это уже не моя забота, а дело правительства.
Мацей глубоко вздохнул и слёзы покатились из его глаз.
– Милый Боже! – воскликнул он потихоньку. – На что человек пошёл! И Бог видит не собственную вину! Но нет, нет, я до этого никогда не дойду! Однажды придётся умирать.
– Говорю тебе – не зарекайся, – с усмешкой шепнул поручик, – не нужно плевать в воду… чтобы её потом не пришлось пить.
Он хотел ещё налить рюмку рому Мацею, но тот поблагодарил и встал, капли пота вытирая с лица.
– Как надумаете, то меня тут почти каждый вечер можете найти, – сказал усатый.
На этом разговор окончился. Мацей вышел из помещения и побрёл по улице.
Едва он прошёл несколько шагов, когда кто-то толкнул его в плечо и сказал тихим, незнакомым ему голосом:
– Идите за мной!
– Куда? Зачем?
– А ну! Это сейчас узнаете, но идите, потому что дело важное и о вашей шкуре речь.
– Оставили бы меня в покое! Я вас не знаю.
– Но я знаю тебя, – сказал незнакомец, хватая его за руку. – Ты Мацей Кузьма, столярный мастер, недавно освободился, рука у тебя слабая. У тебя больная жена, трое маленьких детей, несколько сот злотых долга, на дерево ни гроша, челяди нечем платить; ты ходишь как отравленный, плохо у тебя мысли по голове бегают, а плохие люди искушают, готовые этим пользоваться.
Мацей, слыша это всё, был почти ошеломлён, но ему на ум пришло, что это, может, продолжение разговора с поручиком, что это только попытка. Уже также ему одна эта мысль шпионажа жгла грудь.
– Слушай, – сказал он, толкая держащего человека, – отойди от меня, дьявол этакий, а нет, я тебе голову проломлю.
Незнакомец начал смеяться.
– Что же это, ты меня принимаешь за какого-то товарища поручика? Или что? Я догадался, что он тебе рекомендовал, но тебе я клянусь на этом потрескавшемся кресте, что русские его унизили, что это полностью другое дело! Ты можешь за мной безопасно идти, твою совесть не замутим. Собственно, что я видел и догадался, что ты ответил поручику, для того тебя с собой хочу проводить.
– Поклянись ещё раз!
– На что хочешь?
– Поклянись спасением, что меня не обманываешь!
Незнакомец, высокий мужчина в очень приличной одежде, лицо которого темнота заметить не позволяла, расстегнулся, достал подвешанный на шею медальон и торжественно повторил клятву.
– Ну, тогда идём, – сказал Мацей.
В молчании они прошли кусок Краковского предместья, а незнакомец, ведя первым, вошёл в одну из камениц напротив Благотворительности… По тёмной лестнице поднялись они на третий этаж. Тут проводник три раза по три постучал в маленькие дверочки, которые постепенно отворились. Передняя была совсем тёмной, пришедший пошептался о чём-то с отворившем, стояли минуту во мраке и, наконец, они вошли с Мацейем в освещённую комнату.
Это была маленькая комнатка с одним окном и довольно пустая. В середине был простой столик, несколько плетёных стульев, в углу кровать с матрацем, но без постельного белья; одна свеча не очень освещала этот тёмный и грустный приют. Теперь лишь Мацей мог рассмотреть и того, кто его сюда привёл и другого, которого застали в квартире. Оба были люди молодые; проводник, высокий, плечистый, благородных черт мужчина, другой – блондин, нежный, хрупкий, бледный, но с чертами, полными энергии. Душе его казалось тесно в этой оболочке, она била ключом из глаз, вырывалась из уст, светилась ореолом на голове.
– Пане Мацей, – сказал первый, – ты среди честных людей, среди своих, говори, что тебе тот дьявол клал в ухо, соблазняя тебя?
Мацей остановился на мгновение, подумал.
– Господу Богу ли, дьяволу ли, – сказал он, – если даёшь слово, что будешь молчать, необходимо сдержать его. Не правда ли?
– Нечего сказать, – сказал блондин, – вы правы; но когда так, то мы вам расскажем, о чём была речь. Я готов отгадать не только, что говорилось, но как там говорилось.
Мацей остолбенел.
– Ежели вы такой разумный пан, – сказал он кисло, – то принадлежите, конечно, к одному братству с поручиком. Так вот, вам скажу, как ему, что вы от меня ничего не получите. Это напрасно, я бедный человек и беднейший, может, от возраста, но чужими слезами и кровью жить не хочу! Прощайте, будьте здоровы. – Он повернулся к дверям, когда почувствовал, что тот блондин схватил его за плечи, начал обнимать и целовать.
– Садись, пане Мацей, – сказал он, – это шельма шпион, которого рано или поздно петля не минует, а мы добрые поляки и работаем не для московского правительства, но для нашей любимой отчизны. Мы не будем тебе лгать ни то, ни это, мы знаем тебя через твою челядь и других товарищей, потому что и мы имеем свою полицию, мы должны следить, видели, что тебя несколько раз тот поручик зацеплял, легко было догадаться, чего он хотел. Так вот, страна от тебя великой услуги требуе т.
– Вы католики? – спросил Мацей. – Вы можете мне ещё раз поклясться, что то, чего вы от меня хотите, для нашей милой отчизны необходимо?
– Мы можем и поклянёмся, – сказал блондин, – посмотрите же на нас, выглядим ли мы на шпионов и предателей?
– О, ну это нет, – сказал Мацей, – но та московчизна, это она прибегает к разным выходкам, а шпионы так прикидываются добрыми поляками, что чёрт их там узнает!
У блондина были слёзы в глазах, он достал крест, спрятанный в выдвижной ящик, и показал его Мацею.
– Смотри! – воскликнул он. – Этот крест, обрамлённый терниями, был сделан из тюремного хлеба, омыт слезами мученика, он вышел из цитадели, святой собой и освящённый болью; на этом кресте мы тебе клянёмся, что нет в нас лжи…
Мацей уже почти устыдился своего недоверия.
– Говорите, приказывайте, а что человек преодолеет, то случится, но Бог видит, если вы можете, то мне через добрых людей помогите, чтобы я сначала голову восстановил, потому что меня беда ошеломила, что сам с собой справиться не умею и ни на что вам не пригожусь, пока меня это моё несчастье есть будет, я стал глупым от боли.
– Со всем справимся, пане Мацей, но нужно и с тем осторожно, потому что, когда тебя шпики в лучшей шкуре увидят, всё пропадёт. А мы от тебя также трудные вещи будем требовать.
– Будь спокоен, – добавил другой, – завтра ты пойдёшь в Благотворительность за ссудой.
– Я ходил напрасно несколько раз, кто же за меня захочет поручиться?
– Там завтра найдутся двое обывателей, которые внесут за тебя залог, но, хотя тебе легче будет, стони, как всегда, потому что нам так нужно.
– Через три дня, – прибавил блондин, – ты пойдёшь на Беднарскую улицу, найдёшь там поручика, нужно ещё отказываться, но, в конце концов, ты должен принять то, что он тебе предлагает.
Мацей вскочил со стула.
– Этого не может быть!
– Всё-таки ты им ничего не будешь доносить, но нам через тебя нужно знать, что у них делается.
– А! Мои дорогие паны, за сокровища мира, – ответил Мацей, складывая руки, – я этого не приму, я этого не сумею…
– Как это! Для твоей милой отчизны! Для нашей святой веры!
– Мои господа, – отпарировал ремесленник, – я столяр, если бы вы приказали мне ботинки делать – это не моя вещь; так и это, я простой человек, а это очень крутое дело, моя голова с этим не справится.
Несмотря на то, что, как очень справедливо выразился пан Мацей, это было крутое дело, молодые люди заверили его, что при их совете и подсказках он честно с ним справится; хоть с большой такой нерешительностью, принял Кузьма неприятное для него обязательство.