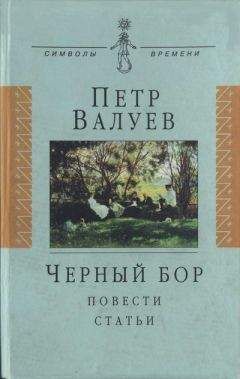– Мне кажется, – сказал Кроссгилль, вставая, – что nostra hodie fecimus. Опасаюсь, что г-н Печерин мог бы утомиться нашими тезисами. Признаюсь откровенно, что на этот раз я имел усиленное намерение пропагандировать. С успехом ли или без успеха – сам г-н Печерин мне когда-нибудь скажет.
– Надеюсь, что мы скоро вновь свидимся, – отвечал Печерин, – и что вы мне позволите вас навестить.
– С большим удовольствием буду вас ожидать. Вот моя карточка. На ней мой адрес.
Когда Кроссгилль ушел, Вальдбах обратился к Печерину с вопросом о впечатлении, произведенном на него англичанином.
– Это человек убежденный, стойкий, – отвечал Печерин, – но сердцем уже охолодевший. Идея долго в нем господствует. Привязанностей нет в настоящем. Были ли в прошлом – также не заметно.
– Он вообще очень сдержан, и сегодня даже, только в вашу честь, был менее сдержан, чем обыкновенно. Вы могли, однако же, заметить, что несколько раз он мгновенно оживлялся и говорил с жаром, хотя потом опять быстро возвращался к привычному, спокойному тону речи. При дальнейшем знакомстве вы убедитесь в том, какая глубокая привязанность сохранилась в нем к Оксфорду. Помню, что он однажды мне говорил о своих впечатлениях в день отъезда, после разрыва его с тамошним миром. Из окон вагона он смотрел на постепенно удалявшиеся и опускавшиеся над горизонтом башни церквей и университетских коллегий; он не мог оторвать глаз от них и в то же время чувствовал и сознавал, что существенная часть его жизни от него отрывалась и оставалась навсегда там, где виднелись те древние, так долго ему близкие башни. Его голос дрожал, когда он мне говорил о том, печать глубокой грусти лежала на его лице, и даже впоследствии, всякий раз, когда ему случалось в разговоре упоминать об Оксфорде, тень этой грусти мгновенно покрывала его черты. В человеке, способном к такой памяти, сердце не охладевает.
– А случается ли ему более определительно высказывать то сочувствие к нашей церкви, о котором вы, кажется, упомянули? – спросил Печерин.
– Да, он догматически очень близок к вам; но у него есть свои взгляды. Он отчасти идет дальше вас и утверждает, что, ввиду современных нападений на христианство, мы все слишком слабо его защищаем, потому что нападения и обстоятельства новые, а защита прежняя. Он говорит, что верования защищаются только верой, а вера – сознанием пределов нашего разумения, не ограничиваясь ссылками на книги, которых значение противники отвергают.
XIV
Если Печерин не забывал в Париже ни Веры, ни Белорецка, то Вера постоянно вспоминала и думала о Печерине. Ее жизнь со дня на день становилась безотраднее, а будущность представлялась ей еще мрачнее настоящего. Со стороны Степана Петровича продолжались косвенные настояния относительно выхода в замужество за Подгорельского; а отношения к Прасковье Семеновне, которая ежедневно была в доме и даже проводила в нем большую часть дня, были явно враждебны: холодны и молчаливы со стороны Веры, задорны, раздражительны и почти злобны со стороны Прасковьи Семеновны. С Болотиным Вера могла видеться лишь изредка, в случаях крайней необходимости и подвергаясь всякий раз сцене с отцом, который упрекал ее в заговоре против него с ее покойной матерью. Разрыв между Сербиным и Болотиным был полный. Степан Петрович потребовал от него немедленной уплаты по его просроченным долговым обязательствам, и Болотин был бы поставлен в необходимость, по истощении всех своих средств, оставить службу в земской управе, если бы неожиданная помощь не выручила его. Вера попросила его взять шесть тысяч рублей, которые он был должен ее отцу, из принадлежащих ей десяти тысяч, переданных ему ее матерью; но Болотин наотрез отказался пользоваться этими деньгами, сказав, что он через то нарушил бы доверие покойной Анны Федоровны. Он уже был готов формально признать свою несостоятельность, когда Шведов, знавший о положении его дел, неожиданно принес ему шесть тысяч рублей и предоставил их в его распоряжение на годовой срок, под единственным условием – чтобы получение этой ссуды от него, Шведова, осталось неизвестным. Уплата долга еще более озлобила Сербина, и он начал распускать слух, что Болотин растратил капитал его дочери; но когда он однажды упомянул о том в присутствии одного из директоров белорецкого банка, куда Болотин внес деньги Веры на хранение, то директор, хорошо знавший Болотина, весьма резко, при свидетелях, опроверг такой наговор.
Между тем в белорецком свете тягостное положение Веры было вполне известно только Болотину и Шведову. Вера требовала от Болотина, чтобы он никому не сообщал о том никаких подробностей, для избежания нареканий на ее отца. Будучи в трауре по матери, Вера оставалась в стороне от обычного зимнего движения в местной общественной среде и, кроме двух или трех дам, близких знакомых покойной Анны Федоровны, почти ни с кем вне дома не виделась. Отношения Степана Петровича к г-же Криленко были, однако же, предметом толков в городе, и к этим толкам, естественно, присоединялись и другие, более или менее сочувственные толки о положении Веры. Не знали подробностей, но в общих чертах догадывались и сожалели. Одни говорили, что в конце концов Вера выйдет за Подгорельского; другие это оспаривали и ссылались на Болотина, который в этом отношении ни к какому умолчанию не был обязан. О самом Сербине никто, вне тесного круга составившейся около него партии, не отзывался доброжелательно; но благодаря уменью и средствам он в этой партии сохранял почти без ущерба прежнее влияние.
При всем том Веру не покидала смутная надежда на просвет в окружавшей ее мгле. Надежда была неразрывно связана с именем Печерина. Вера припоминала его последние слова при их прощальном свидании и знала от Болотина и отца Пимена, что Печерин осведомлялся о ней после кончины ее матери, хотя такое осведомление было так естественно, что ему нельзя было придавать особого значения. Приезда Печерина в Черный Бор никто не ожидал, так как он не упоминал о таком намерении ни в письмах к Шведову, ни в ответах на два письма отца Пимена. Напротив того, возвратившийся из Парижа белорецкий помещик Чукмасов, дальний родственник губернатора, рассказывал, что Печерин много бывает в тамошнем свете, ухаживает за какой-то красивой мисс или леди, подружился с англиканским каноником или деканом, для того чтобы чаще встречаться в обществе англичан с той леди или мисс, и собирается весной в Англию, на лондонский сезон. Вера никогда не говорила о Печерине; но Прасковья Семеновна Криленко, с той проницательностью, которая всегда более свойственна злым людям, чем добрым, давно была убеждена не только в том, что Вера думает о Печерине, но и в том, что она его полюбила и надеется на его приезд летом. Прасковья Семеновна без труда успела в этом уверить и Степана Петровича, которому Печерин с самого начала не пришелся по сердцу, а затем стал ненавистен после отказа продать Черный Бор. Услышав о рассказах Чукмасова, Прасковья Семеновна поспешила передать их за обедом у Сербина, обращаясь к нему, но с явным злорадством посматривая на Веру. Степан Петрович также взглянул на нее, чтобы подметить произведенное на нее впечатление. Но Вера уже привыкла владеть собой и заранее знала, что всякий раз, когда произносилось имя Печерина, ей следовало ожидать или недоброго о нем слова, или чего-нибудь для нее самой неприятного. Она успела справиться с охватившим ее внутренним движением, пока Прасковья Семеновна передавала повествование о леди или мисс и предстоящей поездке в Англию, и когда она кончила, то Вера спокойно сказала, обратясь к отцу, что это известие ее не удивляет, потому что некоторое пристрастие к Англии и англичанам в Печерине было всегда заметно и он несколько раз говорил летом о намерении из Парижа поехать в Лондон.
Рассказ Прасковьи Семеновны произвел, однако же, свое действие. Возвратясь после обеда в свою комнату, Вера судорожно заплакала. Она не вполне верила рассказу, но сознавала, что и сама ни в чем противоположном не была уверена. Время уходило и приносило ей только новые огорчения, и удручавший ее домашний гнет постоянно возрастал. Когда сердце уязвлено и в нем ощущается беспрерывная недремлющая боль, то при каждом случайном прикосновении эта боль так обостряется, что может казаться, будто она является в первый раз, – так она бывает сильна. Вера опустилась на колени перед висевшей в углу комнаты иконой и стала горячо молиться одной из тех молитв, для которых, по выражению одного писателя, не писано слов, которых нельзя передать словами, но где сливаются воедино с исповедью страдания и мольба о помощи и упование на помощь.
Бывают в жизни минуты, когда мы особенно ясно сознаем свою беспомощность. Нет точки опоры в кругу обыденных условий и отношений, и из него не видно исхода. Все к нам близкое как будто против нас ополчилось. Все более от нас далекое или равнодушно к нам, или бессильно помочь. Так называемая сила вещей влечет нас по наклонной плоскости к краям мрачного обрыва; мы его видим, знаем, что к нему приближаемся, но чувствуем, что остановиться не можем. В таком положении была Вера, и положение было потому безвыходно, что создавалось ее отцом. С наступлением весны оно должно было сделаться еще более тягостным. Сербин объявил, что он проведет лето, вместо выгоревшего Васильевского, на тех Симановских хуторах, которые были куплены им для г-жи Криленко. Таким образом, Вере предстояло быть гостьей женщины, в которой она видела непримиримого себе врага, которая помрачила конец жизни ее матери и относительно которой она с трепетом ожидала, что настанет день, когда отец назовет эту женщину второй для Веры матерью.