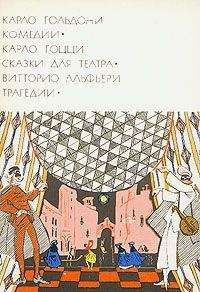– Генрихом Гейне? – сказал Шарль.
– Вы угадали… И что же, Генрих Гейне никогда не будет популярным во Франции. Кто его читает? Только те, кто им восхищается. Это происходит оттого, что Гейне художник и в то же время ученый. Он великолепен, но туманен. Он заставляет вашу мысль идти за ним в полутьму, где под одним образом скрывается другой… Наконец, есть еще одна вещь, которой не достает вашему произведению, и, клянусь, не только вашему, но и всем современным сочинениям, это – веселость, откровенного смеха, громкого, звучного открытого смеха Мольера или Теньера, этого свободного, широкого вдохновения, названного кем-то, и совершенно справедливо, «струей старого вина». А между тем комический элемент в сочинении довольно важен. Этот добрый гений веселости – сила и большая сила. Он изобиловал даже во второстепенных сочинениях прошлых веков. Где он в настоящее время? Наш смех, боясь быть грубым и желая стать тонким, обратился в гримасу. А куда девали мы нашу веселость, стараясь воспитать и утончить ее? Она превратилась в нездоровую иронию, в гримасы сумасшедшего. Нет, наш комизм – не прежний здоровый комизм… Разве мы сделались меланхолической расой? Или нервный темперамент окончательно укоренился в современном человеке? Зависит ли зло от нас самих или от видоизменений нашей жизни?
– Оно зависит… – сказал Грансе и остановился. – Сегодня, – продолжал он, – я зашел в аукцион. Там была выставлена коллекция одежд XVIII века, платья всех цветов – серого, голубого, розового, цвета перенна, целая груда всевозможных оттенков, ласкающих взор, веселых, кокетливых, ликующих… Целая восходящая гамма красок… И после этого какого веселья хочешь ты, Франшемон, от человека в черном платье? В то время платье смеялось вместе с человеком, а теперь оно плачет вместе с ним… Смешная мысль одеть жизнь в траур!..
– О, если б только это!.. Нет. Существуют болезни человечества, как болезни почвы, нравственный грибок… Еще одно последнее замечание, господин Демальи. Не слишком ли далеко заходите вы в научном анализе? Мы уже имеем в этой отрасли последнее слово в сочинениях Эдгара По. И что же! Что в сущности представляет собой По? Таинственную науку, болезненную литературу ясновидения, анализа воображения; Задиг – это настоящий судебный следователь, Сирано де-Бержерак – ученик Арого; это своего рода помешательство на одном пункте; неодушевленные предметы играют у них большую роль, чем люди, любовь уступает место рассуждениям и другим источникам мысли, фразам, рассказу; вместо чувства, в основе романа является рассудок, вместо страсти – загадочность, развитие драмы сводится к решению загадки…
Может быть, таким будет роман XX века; но и тогда еще вопрос, литература ли это? Не знаю… но мне кажется, что роман современных нравов можно создать не ранее как в сорокалетний возраст. Романы двадцати и даже тридцатилетних – это беглый взгляд на вещи, и только. Нужно, чтобы человек имел в романе все жизненные силы, чтобы он находился в возрасте полного развития своей способности к объединению, развития высшей степени наблюдательности, правдоподобности вымысла и полной зрелости мысли. По-моему, это возраст, когда мозг достигает полного своего развития, возраст апогея производительной способности: самые лучшие произведения человека всегда носят отпечаток его лет. Относительно того, что принято называть полетом фантазии, песней души, парением в облаках, я признаю, что можно быть молодым, очень молодым… Но я говорю не об этом. Теперь перехожу к вашей книге, в которой вы опустили одну вещь, касающуюся важной стороны вашего романа; вы только слегка, вскользь намечаете ее: это привычное, постоянное участие большинства буржуазии в мелкой торговле; не в той широкой, английской торговой спекуляции, где идут сложные комбинации и рассчитанная игра на повышение и понижение, которая, заставив человека тридцать лет подряд просидеть в конторе, нисколько не убавит в нем ни честности, ни откровенности и не лишит его природных хороших качеств; среди нашего торгового класса все сводится лишь к прибылям и в связи с этим является тысяча ухищрений, которые никак не могут назваться правильной торговлей. Отсюда возникает (и вот об этом-то вы и умолчали) следующее: сыновья, т. е. молодое поколение вырастает в лавке, воспитывается среди плутовства, низостей, фальши, дутых цен, среди всего этого морочения, составляющего мелкую парижскую торговлю, не брезгающую ни двойным запрашиванием, ни продажей попорченных товаров, за ловкий сбыт которых приказчик награждается, ни даже приманками, вроде глазок конторщицы… Все это создает нездоровую атмосферу, производящую порчу крови; как первородный грех вошел в нашу плоть, точно также и эта порча заражает молодое поколение. Физиология еще недостаточно разработала вопрос о наследственности рас, это продолжение, путем наследственной передачи, не только телесных недостатков, но привычек и характера; так, например, сын наследует жесты отца; историки говорят нам о наследственной ноге, о наследственном уме…
– Ну, уж поехал! – сказал Ламперьер, – теперь только держись среднее сословие… Послушай, мой милый, солнце только однажды остановилось, и все-таки Иисус Навин не мог повернуть его в обратную сторону… Знаешь, что ты мне напомнил в данную минуту? Одно очень юмористическое воспоминание пришло мне на ум: однажды, идя в библиотеку, я проходил улицей Ришелье и увидел великолепного ньюфаундленда, бросавшегося на фонтан. Он был вне себя и бешено лаял. Он кусал воду, а она все текла. Это выводило его из терпения, и он продолжал ее кусать еще с большей яростью и ожесточением, не знаю, слышал ли он мой смех…
– Это очень мило, – сказал Франшемон, – но ты не возражаешь?
Ламперьер улыбнулся и пожал плечами.
– Ты знаешь, Франшемон, что меня не убедить. Мы стоим на двух противоположных концах земного шара, и я также далек от твоей партии, как…
– Моя партия! – быстро прервал его Франшемон. – Я не принадлежу ни к какой партии! Моя партия; это я, один я! Не могу же я назвать себя частью своей партии, или партии, которая никогда не понимала цены печатной бумаги, которая имела честь и счастье принадлежать к нации, обладавшей таким мыслителем, философом и государственным человеком, как Бальзак; партия эта в продолжение пятидесяти лет позволяла своим врагам писать о себе что угодно, целые биографии, энциклопедии, даже историю! Нет, Ламперьер, еще раз повторяю вам, что моя партия – это я сам и других партий у меня нет.
Говоря это, Франшемон ходил взад и вперед, около стола. В наружности Франшемона сохранились еще остатки былой красоты. Черты его лица были правильны, зубы великолепны, а глаза загорались пламенем, когда он говорил. Но жизнь и постоянное умственное напряжение провели вокруг глаз и по всему его бледному лицу глубокие борозды. Франшемон был рожден для политической и философской борьбы, при помощи памфлета; он обладал большим искусством высказывать смелые мысли и парадоксы, был мастер в полемике и понимал литературу только как выразительницу общественных идей, презирал поэзию, был равнодушен к гармонии фраз; будучи человеком сильных убеждений, но с неровным и необузданным характером, он ничем не руководствовался в своих верованиях, и часто был даже непоследователен; практический теоретик, он не довольствовался Богом и желал бы подкрепить его, как Карно, жандармом; враг сентиментальных утопий, он, подобью аббату Гальяни, не отступал перед насилованием мнений и грозными речами; с любовью и самозабвением предаваясь восстановлению прошлого, зная, что это также бесполезно, как восстановление античных саркофагов пенсионерами Рима, он иногда выражал сожаление о недостатке собственной энергии, для вступления в один из орденов, в том, что он не исполнил своего призвания в качестве страстного и воинственного миссионера. Обильное, жгучее красноречие так и лилось из его уст.
Его властный, сильный, определенный и резкий слог словно рубил слова топором и от избытка выбрасывал мысли, прерывая их молчанием или монологами, звучавшими как сталь, подобно голосу Наполеона, великий ропот которого сохранился в его «Мемориале об острове Св. Елены».
Вдруг одна мысль заставила Франшемона остановиться перед Ламперьером.
– Хорошо, ну а твоя партия? – резко проговорил он.
– Что моя партия?!
– Ну да, твой XIX век, если хочешь?
– Ты значит не можешь, как все добрые люди, спокойно пить свой кофе? В таком случае, если это необходимо для твоего пищеварения…
– Что такое вы открыли, ну-ка скажи? В экономическом строе, например? Политическую экономию… и только? В нравственном что? Нравы что ли? Девица легкого поведения была прежде только куртизанкой: вы сделали из неё общество… Она царит, она господствует. Этот народец играет роль общественного мнения. Для него существуют спектакли, журналы, моды. О нем говорят, он всех остальных интересует. Спросите, на прогулке у любой честной женщины, имя какой-нибудь из этих особ она назовет не только ее, но и её любовников!.. В самом деле, Ламперьер, я стараюсь найти… нравственное улучшение человеческой породы, или быть может современная история украсилась чем-нибудь? В обществе увеличилось чувство правды? Нет, всюду ложь и ложь! Для неё даже выдумали особое вежливое название: вымысел! Ложь в статистике, ложь в науке… А наша единственная комедия нравов называется «Скоморохи»! И везде слова, одни слова, слова на стенах, слова в книгах!.. Возьмем что угодно, ну хоть равенство, упразднение наследственных привилегий… Ну, прекрасно! Зачем далеко ходить, есть ли оно у нас, у интеллигентной нации, у республиканцев? скажи на милость, где! Привилегия противна природе, не находишь ли ты, однако, что привилегия наследственности преспокойно процветает? Исключи двух или трех человек, которые создали себе положение сами, прежде чем им создали его их отцы, а остальное… Но хуже всего, наследственность таланта! Если бы еще наследственность касалась только имен литературных, но у нас существует наследственность привилегии политического, административного имени! Создавайте законы, громоздите фразы, драпируйте человечество: нравы останутся те же… А твой народ, твой милый народ, который учат читать и набивают ему голову разными идеями! нет, право, я хотел бы знать…