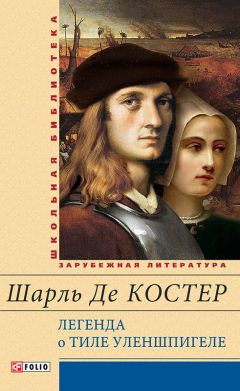– Зачем ты вытираешь жирные пальцы о свои штаны? – спрашивала мать.
– Чтобы они не промокали, – отвечал Уленшпигель.
В это время Клаас хватил здоровый глоток пива из своей кружки.
– Отчего у тебя такая большая кружка, а у меня такой маленький стаканчик? – спросил Уленшпигель.
– Оттого, что я твой отец и хозяин в доме, – ответил Клаас.
Но Уленшпигеля этот ответ не удовлетворил.
– Ты пьёшь уже сорок лет, а я только девять. Твоё время пить уже проходит, а моё только начинается. Стало быть, мне полагается кружка, а тебе стаканчик.
– Сын мой, – поучал его Клаас, – кто хочет влить бочку в бутыль, тот прольёт своё пиво в канаву.
– А ты будь умён и лей свою бутылку в мою бочку: я ведь больше твоей кружки, – отвечал Уленшпигель.
И Клаас, довольный, дал ему выпить свою кружку. Так Уленшпигель научился балагурить ради выпивки.
Пояс Сооткин показывал, что ей предстоит вновь стать матерью. Катлина также была беременна, и от страха она не смела выйти из дому.
Пришедшей к ней Сооткин она жаловалась, истомлённая и расплывшаяся:
– Что делать мне с этим злополучным плодом моего чрева? Задушить, что ли? Ах, лучше бы мне умереть! А то стражники уличат меня в том, что у меня ребёнок, схватят и сделают, как со всякой распутницей: двадцать флоринов штрафа возьмут и высекут на Рыночной площади.
Сказав ей несколько ласковых слов в утешение, Сооткин распростилась с нею и в раздумьи пошла домой. И однажды она спросила мужа:
– Что, Клаас, если у меня вместо одного родится двойня, ты не побьёшь меня?
– Не знаю, – ответил Клаас.
– А если этот второй будет не от тебя, а, как у Катлины, от неизвестного, быть может, от дьявола?
– Дьяволы, – ответил Клаас, – рождают огонь, смерть, дым, но не детей. Ребёнка Катлины я бы принял как своего.
– Неужели принял бы?
– Говорю ж тебе, – отвечал Клаас.
Сооткин пошла к Катлине и рассказала ей об этом. Услышав это, Катлина была вне себя от счастья и радостно восклицала:
– Так он сказал? О благодетель! Его слово – спасение моего бедного дитяти! Господь его благословит, и дьявол его благословит, если, – продолжала она с дрожью, – если дьявол породил тебя, бедное дитя, что шевелишься в моём чреве.
И Сооткин и Катлина родили: первая – мальчика, вторая – девочку. Обоих понесли крестить как детей Клааса. Сын Сооткин назван был Ганс и скоро умер. Дочь Катлины получила имя Неле и была здоровенькая.
Из четырёх молочных бутылей пила она напиток жизни: из грудей Сооткин и грудей Катлины. И обе женщины тихо спорили, кто даст дитяти попить. Но, несмотря на своё желание, Катлина вынуждена была засушить свою грудь, чтобы никто не мог спросить, откуда у неё молоко, если она не была матерью.
Когда маленькую Неле отняли от груди, она взяла её к себе и пустила к Сооткин лишь тогда, когда дочь стала называть её «мама».
Соседи находили, что Катлина хорошо делает, взяв к себе на воспитание ребёнка Клаасов: она женщина с достатком, а Клаасы ведут бедную, трудовую жизнь.
Как-то утром, сидя дома и скучая, Уленшпигель ковырял отцовский башмак, мастеря себе из него кораблик. Он уж воткнул в подошву грот-мачту и продырявил носок, чтобы закрепить там бугшприт, как вдруг в двери показалась верхняя часть тела всадника и голова лошади.
– Есть здесь кто-нибудь? – спросил всадник.
– Есть, – отвечал Уленшпигель, – полтора человека и лошадиная голова.
– Как это? – спросил тот.
– Да вот как: целый человек – это я; половина другого человека – это ты; а лошадиная голова – у твоей кобылы.
– Где твои отец и мать?
– Мой отец работает: роет яму ближнему, а мать старается принести нам стыд или вред.
– Говори яснее, – сказал проезжий.
Уленшпигель ответил:
– Отец в поле, копает ямы, чтобы охотники, что топчут наш посев, попали туда. Мать ходит и ищет, где бы занять денег: если она возвратит слишком мало, будет нам стыдно; если отдаст слишком много, будет нам вредно.
Всадник спросил его, где дорога.
– Там, где ходят гуси, – ответил Уленшпигель.
Проезжий скрылся, но когда Уленшпигель из второго башмака Клааса соорудил гребную галеру, он появился вновь.
– Ты обманул меня, – сказал он, – там, куда ты послал меня, нет ничего, кроме грязи и навоза, в котором копошатся гуси.
Уленшпигель ответил:
– Я послал тебя не туда, где гуси «копошатся», а туда, где они «ходят».
– Ну, покажи, наконец, дорогу, которая идёт в Гейст.
– Во Фландрии ходят люди, а не дороги, – ответил Уленшпигель.
Как-то Сооткин говорит Клаасу:
– Послушай, муж, у меня душа изныла от беспокойства: вот уж три дня как Тиля нет дома. Не знаешь ли, где он?
– Он там, где бродят бездомные собаки, – печально ответил Клаас, – где-нибудь шляется на большой дороге с такими же, как он, бездельниками. Жестоко наказал нас господь таким сыном. Когда он родился, я думал: он будет нам утешением на старости лет и работником в доме. Мне хотелось сделать из него доброго ремесленника, а злая судьба делает из него лентяя и бродягу.
– Не будь так строг, – ответила Сооткин, – нашему сыну едва минуло девять лет, он и дурит, как ребёнок. Ведь и дерево сбрасывает чешуйки, прежде чем оденется в зелёный убор, который даёт ему честь и красоту.
Знаю, длинный у него язык. Но что же, может быть, если он его употребит не на глупые шутки, а на честное дело, и это пойдёт ему в пользу. Он любит посмеяться над ближним, но и это потом будет не так плохо в кругу весёлых товарищей. Он смеётся безустали, но лицо, скисшее до зрелости, – дурное предзнаменование для юности. Много бегает, – ну, будет расти лучше; не работает – так ведь в этом возрасте он и не может понять, что труд – наш долг, а если он подчас половину недели дни и ночи проводит бог весть где, то ведь он не знает, как огорчает нас этим: у него доброе сердце, и он любит нас.
Клаас покачал головой, но ничего не ответил, и Сооткин тихо плакала одна, когда он уснул. К утру ей уже казалось, что сын её валяется больной где-нибудь на дороге. Поэтому она подошла к двери посмотреть, не вернулся ли он, но ничего не было видно, и она села у окна и стала смотреть на улицу. И часто вздрагивало её сердце при звуке лёгких шагов какого-либо мальчика. Но он пробегал мимо – это был не Уленшпигель, – и опять плакала бедная мать.
А Уленшпигель со своими негодными приятелями был на рынке в Брюгге: там по субботам базарный день.
Были здесь башмачники и латальщики, в отдельных рядах старьёвщики, miesevangers, то есть птицеловы из Антверпена, по ночам ловящие с совами синиц, торговцы птицей, бродяги, подбирающие собак, кошатники с кошачьими шкурками для перчаток, нагрудников и оторочек, всякие покупатели, горожане, горожанки, прислуга, работники, пекари, повара, кухарки, все вперемежку, продавцы и покупатели с криком и бранью, одни расхваливали товар, другие хаяли его.
В одном углу рынка была разбита на четырёх шестах красивая парусиновая палатка. У входа её стоял крестьянин из Алоста[39] с двумя монахами, занятыми сбором приношений, и показывал за патар благочестивым созерцателям осколок ключицы святой Марии Египетской. Надорванным голосом прославлял он добродетели святой, распевая о том, как за неимением денег подвижница натурой уплатила юному водоносу, боясь погрешить против святого духа тем, что не вознаградила труженика.
И монахи усердно кивали в подтверждение того, что он говорит правду. Подле него рыжая толстуха, с виду похотливая, как Астарта[40], дула что есть силы в гнусную волынку, а рядом с ней, точно пеночка, заливалась песней хорошенькая девочка. Но никто не слушал её. Над входом в палатку висела на двух шестах бадья с чудотворной водой из Рима. Так говорила рыжая толстуха, а монахи кивками подтверждали, что это правда. Уленшпигель посмотрел на бадью и задумался.
К одному из шестов палатки был привязан осёл, который, видно, привык питаться больше соломой, чем овсом. Свесив голову, он уставился в землю, очевидно без всякой надежды найти на ней колючку чертополоха.
– Ребята! – сказал Уленшпигель и показал товарищам на толстуху, монахов и унылого осла. – Хозяева поют хорошо; надо бы, чтобы серяк потанцовал.
Сказав это, он побежал в соседнюю лавчонку, купил на шесть лиаров перца и насыпал ослу под хвост.
Почуяв жжение, осёл потянулся к хвосту и стал осматривать, откуда идёт эта необычайная теплота. Решив, что его поджаривает какой-то дьявол, он рванулся было, заревел, завизжал, забрыкался и изо всех сил дёрнул недоуздок. Шест покачнулся, бадья перевернулась, и вся чудотворная вода вылилась на палатку и на тех, кто был в ней. Свалилась и парусина и мокрым покровом окутала всех, кто слушал историю святой Марии Египетской. Уленшпигель с друзьями, столпившись у палатки, слышали несшиеся оттуда вопли и брань, ибо благочестивые души, свалившиеся там в кучу, пришли в дикую ярость, обвиняя друг друга в несчастии, и бешено колотили кто в кого попадал. Парусина надувалась над этой сутолокой. Всякий раз, как на ней обозначалась выпуклая часть чьего-нибудь тела, Уленшпигель втыкал туда булавку. Ответом были остервенелые крики из-под палатки и новый град колотушек.