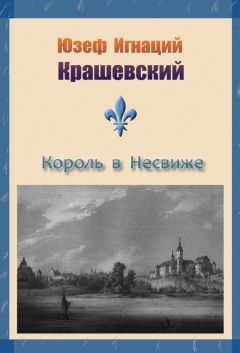Быстрым шагом он вернулся назад, пробежал часть Долгой улицы и вбежал на Медовую. Заведение у Липкава, напротив Апелляционного суда, известно всем, кто когда-либо у ворот святыни справедливости должен был выжидать назначенного часа. Выбор этого места доказывает точный инстинкт предпринимателя, но даже в часах, в которых суды и канцелярии бывают закрыты, Липкав имеет своих верных последователей и установленную репутацию. Поручик нашёл тут ещё более десятка ужинающих особ, а так как по большей части это были порядочные люди, он как-то устыдился в ту пору пить так одну водку. Он велел себе что-то подать, а тем временем под разными видами ловко подходил к буфету и всё из другой бутылки требовал рюмку. В один из таких переходов от столика к бутылкам ему бросилась в глаза физиономия старого человека в скромной одежде, который что-то ел в стороне и внимательно к нему присматривался. Как это часто после долгих лет невидения случается, поручик чувствовал, что где-то видел этого человека, а вспомнить его не мог. Видимо, также этот господин не был уверен, имел ли перед собой знакомого, но пристально за ним наблюдал.
– Какого черта, Преслер или нет? – отозвался, наконец, голос со столика.
– Это в самом деле я! – сказал, отворачиваясь, поручик. – Пан полковник?
– А ты что тут делаешь? Я был уверен, что ты где-то уже лет двадцать гниёшь в земле.
– А! Ещё нет, – сказал с великим смирением и как бы пристыженно поручик Преслер. – Давно уже черти должны были бы взять меня, но предпочитают мучить живого.
– Ну, что же с тобой делается? С того времени, как тебя выгнали из армии, что делал?
– А что? Пане полковник, бедность я ел и бедность меня ела. Как спешно несправедливо прогнали меня из полка, а потом уже нигде человек места нагреть не мог. Забавлялся разной промышленностью, торговлей, и так, так жизнь скромно прошла. Ещё, вдобавок, нужно было человеку жениться, и сварливая баба и двое детей на шее.
Старый человек, которого Преслер называл полковником, поглядел на него с сожалением, молчал, долго думал, исподлобья к нему приглядывался, и сказал тихо:
– Гм, то-то, наверно, муштру и учения ты, должно быть, полностью забыть?
Эти несколько слов произвели на Преслера странное впечатление, ещё минуту назад он был в душе старым солдатом, двусмысленные эти слова припомнили ему, что он был шпионом. Он почувствовал в них какой-то запах подозрения и шибко ответил:
– Ну нет, пане полковник, человек, который однажды в армии научился этому, не забудет.
– Однако это уж давно! – сказал полковник.
– Всё-таки, если бы сегодня понадобилось, – добавил таинственно Преслер, – ещё бы с винтовкой и штыком справился.
Полковник ничего на это не ответил, но задумался, потом вдруг спросил Преслера, не захочет ли он чего-нибудь выпить, угостил его и, вставая со столика, как бы случайно заговорил о жилье. Бывший поручик (который в действительности был только сержантом) немножечко смутился.
– Эх! Я стою там где-то в дыре, где бы там меня кто искал. Пусть только соблаговолит полковник поведать, где он стоит, и буду в его распоряжении.
– Спросишь меня в Саксонском отеле, – сказал он и поспешно вышел.
Брошенный вопрос, припоминание характера полковника и его известной славы патриота пробудили в Преслере профессиональный инстинкт; он думал, что может подвернуться случай выслеживания в этот раз чего-то более важного, чем среди ремесленной челяди. С жадностью дикого зверя, забыв даже о пьяных своих проектах, он выпустил полковника вперёд и выскользнул скоро за ним, выслеживая его шаги.
* * *
Комнатка, которую Юлиан Преслер занимал под чердаком рядом с отцовской, была подобна всем жилищам этого типа – имела одно окно, из которого небо, крыши и летающие ласточки только были видны. Довольно узкая и длинная, она вмещала в себе кроватку анахорета, столик студента и бедный инвентарь человека, который ещё ни в каком хозяйстве не нуждался. А вот что сказал Беранже о комнатах на чердаке: когда тебе двадцать лет, естественно быть в этом тесном уголке. Было в ней чисто, радостно и мило; какая-то поэзия молодости наполняла её и освещала. Как сам был Юлиан вокруг себя аккуратный, так и жилище его отмечалось непритязательным порядком, чувствовалось в нём спокойствие души молодого человека. Как в том гнезде беспорядка и шума могла эта молодая птаха, с улыбкой на устах и внутренним спокойствием в голове, воспитаться? Понять это было трудно, но родительская любовь творит чудеса, любила его мать, для него работая и стараясь дать ему такое, чтобы мог её уважать, ломался перед ним отец, скрываясь с зависимостями, с образом жизни и заработка. Появление Юлиана каждый раз вызывало тот же эффект, смягчало умы, сеяло согласие. Юлиан, обучаясь по большей части вне дома, очень плохо знал отца и мог его уважать даже издалека. В любом случае, Преслер был используем для таких второстепенных услуг, что его мало кто знал и догадывался о его несчастном призвании. В доме почти никогда о случаях, о делах страны речи не было, а мать в отсутствие мужа не жалела оскорблений для русских, которых на простом народном языке звала, как все – капустниками. Имела она к ним обиду за то осквернение мужа, которое душило её с каждым кусочком хлеба.
Известно, какой дух был в обществе всех научных учреждений в королевстве. Несмотря на тщательный подбор учителей боязливых либо безразличных, несмотря на невероятную бдительность и надзор, несмотря на присылаемые научные книги, фальшивящие историю и правду, молодёжь чудесно сохранила национальный дух. Нельзя это назвать иначе, как чудом. В школах Литвы, Волыни и Подола, в глубине Белой Руси студенты выходили, не зная польского, но наилучшими поляками. Объявлялся этот дух часто так очевидно, что должны были его жестоко карать, но это его только раздражало. До сегодняшнего дня на школьных скамьях стоят повырезанные детскими руками имена тех студентов, которые подверглись преследованию. Память их хранилась как реликвия мученичества. Эти памятные посещения школ при царе Николае, в которых этот Ирод издевался над детьми, в смелых взглядах невинности уже ища преступления, прошли как традиция сквозь много поколений студентов, вдохновляя их только на любовь к родине. Даже сыновья немцев и русских, дети полицейских должностных лиц, мальчики, родители которых жили милостями российского правительства, в связи с этим молодым, не испорченным миром проникались чувством чести и росли верными детьми Польши.
Таким образом и молодой Юлиан Преслер мог, не заражённый проступком отца, идти той дорогой, которою шла вся, без исключения, наша молодёжь. В её развити, в убеждениях были великие различия, возраст, темперамент, зрелость. Самые воодушевлённые были, без сомнения, те, что ещё от земли не выросли, самые горячие были низшие классы, за ними шла Школа агрономов в Маримонте, Школа изобразительных искусств, студенты которой такую важную роль сыграли в последних выступлениях, наконец, Академия медицины. Студенты этой последней, которые были зерном будущей Главной школы, оживлённые горячими чувствами привязанности к стране, показали наибольшую сдержанность и умеренность. Не отстранились они от народа, но становились часто как консервативный элемент в выступлениях, которые слишком быстро толкали вперёд. Ту более зрелую роль они сохранили до конца.
Маримонт и Школа изобразительных искусств шли горячим фронтом, медики, не отступаясь, регулировали этот марш здравым смыслом и рассудительностью. Влияние их на население города, до тех пор, пока управлять им было можно, было очень большим. Не раз челядь и простой люд приходили с ними советоваться и, что удивительно, слепо шли за их советом. Не было отступлений, были доказательства преданности, следовательно, очень осторожное действие приписывали убеждениям, не считая его вовсе за зло.
Того вечера, когда поручик был у Липкава, Юлиан с тремя товарищами находился на совещании в своём жилище на чердаке. Легко догадаться, что там ни о чём больше не говорили, как о текущих событиях. Юлиан принадлежал к наиболее горячим, а его благородный характер, быстрая мысль и очень примерная жизнь добавили ему, несмотря на молодость, облик одного из лидеров академического круга. Трое других – сознательные, старшие и более медлительные, как раз обсуждали с Юлианом способ поведения в будущем. Преслер был того мнения, что следовало идти дружным и равным шагом с Маримонтом и Школой изобразительных искусств, предусматривал он уже, а скорее знал, о неизбежном взрыве, который рано или поздно должен был наступить. Старшие обманывались ещё той надеждой, что, в медленной борьбе вырабатывая дух и приготавливая средства, можно будет отложить восстание. Главным и очень важным аргументом тех, что его сразу видели неподходящим, была необходимость в умиротворении и склонении на свою сторону сельского люда, частью нейтрального, частью враждебного всему, что сюртук носило. Насколько городской люд был готовым и требовал скорее сдерживания, чем добавления энтузиазма, настолько деревни показывали себя холодными и недоверчивыми. Но, с другой стороны, те, которых звали красными, утверждали, что само восстание будет наилучшей школой практического патриотизма для крестьян, что иного способа повлиять на людей никогда бы не допустила московская бдительность, а когда это действие было возможным, потребовалось бы такое долгое время, что в итоге взрыв необходимо было бы отложить на неопределённые годы. Горячих горожан сдерживали обещаниями разного вида, откладывая со дня на день, но в итоге роптали они, подозревали в измене, выходили из терпения. Этот энтузиазм жителей городов и среднего класса не был, как мы видим, вовсе придуманным, дали они доказательства такой преданности, такой настойчивости и мужества, что, может быть, пальма мученичества перед всеми будет принадлежать им.