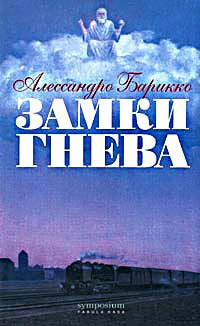1. Все записывать, чтобы не забыть.
Эта аксиома открыла список познаний Пента, и он расширялся день за днем и был весьма разнопланов. Как любой другой каталог, этот был совершенно нейтрален. Мир был представлен в нем с неизбежной пристрастностью, но абсолютно без всякой иерархии. Примечания – всегда довольно синтетические, почти телеграфного стиля, – свидетельствовали об уме, рано постигшем отчетливую и плюралистическую природу тайны жизни: почему луна не всегда одинаковой формы, что такое полиция, как называются месяцы, когда текут слезы, устройство и назначение бинокля, почему бывает диарея, что такое счастье, как быстро завязать шнурки, названия городов, почему нужны гробы, как стать святым, где ад, основные правила ловли форели, цвета, существующие в природе, рецепт кофе с молоком, клички известных собак, куда девается ветер, ежегодные праздники, с какой стороны находится сердце, когда будет конец света. Вот такие вещи.
– Пент – какой-то странный, – говорили люди.
– Это жизнь странная, – говорил Пекиш. Пекиш, собственно, не был отцом Пента. В том смысле, что у Пента, собственно, и не было отца. И матери тоже. То есть это была непростая история.
Его нашли, когда ему не было и двух дней, – он лежал, завернутый в черный мужской пиджак, – у дверей церкви в Квиннипаке. Взяла его к себе и вырастила вдова Абегг, женщина лет пятидесяти, очень уважаемая в городе. Если точно, на самом деле имя ее было не Абегг, и она была не совсем вдова. В общем, ее история была еще сложнее.
Лет двадцать назад на свадьбе сестры она познакомилась с одним младшим лейтенантом, очень красивым и скромным. В течение трех лет они обменивались частыми и с каждым разом все более задушевными письмами. В последнем письме лейтенанта содержалось осторожное, но решительное предложение руки и сердца. По той же иронии судьбы, которая так поразила Пекиша при чтении письма от Мариуса Джоббарда, это предложение пришло в Квиннипак через двенадцать дней после того, как пушечное ядро весом в двадцать килограммов беспощадно лишило младшего лейтенанта возможности жениться; и, в общем-то, всяких других возможностей. Добрая женщина отправила на фронт три письма, в которых все с большей настойчивостью сообщала, что согласна на свадьбу. Все три письма вернулись обратно, с официальным подтверждением смерти младшего лейтенанта Абегга. Другая женщина, может быть, и сдалась бы. Но только не эта. Лишившись счастливого будущего, она сочинила себе счастливое прошлое. Она сообщила всем жителям Квиннипака, что ее муж героически погиб на поле сражения и ей хотелось бы, чтобы отныне ее называли вдовой Абегг. В ее рассказах все чаще стали появляться смешные истории из ее предыдущей, гипотетической замужней жизни. Часто в ее речи торжественным рефреном звучало: «Как говорил мой дорогой Карл…», и дальше следовали не очень тонкие, но разумные изречения. На самом деле младший лейтенант никогда ей этого не говорил. Он ей писал. Но для вдовы Абегг это было одно и то же. Практически три года подряд она была в эпистолярном браке. Что ж, бывают еще более странные браки…
Как следует из вышесказанного, миссис Абегг была женщиной с незаурядной фантазией и твердыми убеждениями. А значит, никого не удивит история с пиджаком Пента, которой, как и многого другого, также коснулся перст судьбы. Когда Пенту исполнилось семь лет, вдова Абегг вынула из шкафа черный пиджак, в котором его нашли, и надела на него. Пиджак доходил ему до колен. Верхняя пуговица была на уровне пупка. Рукава болтались как на вешалке.
– Слушай меня хорошенько, Пент. Это пиджак твоего отца. Если он его тебе оставил, это, должно быть, добрый знак. Так вот, постарайся понять. Ты вырастешь. И если однажды ты обнаружишь, что он тебе впору, ты покинешь этот никчемный городок и отправишься искать счастье в столицу. Если же ты не вырастешь достаточно большим, ты останешься здесь и все равно будешь счастлив, потому что, как говорил мой дорогой Карл, «счастлив цветок, расцветший там, где посадил его Господь». Вопросы есть?
– Нет.
– Вот и хорошо.
Пекиш не всегда одобрял тот солдафонский тон, который миссис Абегг применяла в особо важные моменты жизни, – очевидное следствие длительного общения с мужем, младшим лейтенантом. Впрочем, по поводу истории с пиджаком ему нечего было возразить. Он признавал, что мысли эти – здравые и в туманной неизвестности будущей жизни пиджак мог представлять собой некую точку отсчета, важную и значительную.
– Не такой уж он и большой. Когда-нибудь он будет тебе впору, – сказал он Пенту.
Чтобы облегчить эту задачу, вдова Абегг разработала разумную диету, в которой искусно сочетались ее скудные денежные средства (военная пенсия, которую на самом деле никто ей никогда не присылал) и элементарные калории и витамины, необходимые мальчику. Пекиш, со своей стороны, давал Пенту некоторые полезные установки, среди которых не последнее место занимало золотое правило, согласно которому, чтобы вырасти, нужно как можно чаще стоять.
– Это почти как со звуком в трубе. Если труба немного изогнута, звук проходит по ней с трудом. У тебя – то же самое. Если часто стоишь, ты легко наполняешься силами, им не надо тратить время на преодоление препятствий. Стой чаще, Пент, старайся держать тело как можно ровнее.
И Пент старался изо всех сил. Конечно же, он пользовался стульями – но только чтобы стоять на них.
– Садись, Пент, – говорили ему.
– Спасибо, – отвечал он и залезал ногами на стул.
– Да, нельзя сказать, что он прекрасно воспитан, – говорила вдова Абегг.
– Когда сидишь на горшке, это тоже не очень эстетично. Хотя необходимость в этом тоже есть, – отвечал Пекиш.
Вот так и рос Пент. Поглощая яйца на обед и ужин, забираясь ногами на стулья и каждый день записывая по одной истине в сиреневую тетрадку. Он болтался в своем огромном пиджаке, как письмо болтается в конверте, идущем строго по своему назначению. Он болтался, облаченный в свою судьбу. Впрочем, как и все остальные; только в его случае это можно было видеть невооруженным глазом. Он никогда в жизни не видел столицу и даже представить себе не мог, почему надо стремиться туда попасть. Но одно он понял: условия игры требовали, чтобы он вырос. И он делал все от него зависящее, чтобы выиграть эту игру.
И все же по ночам, лежа под одеялом, когда никто не мог его видеть, с сильно бьющимся сердцем, он тихонько сворачивался калачиком и именно так, подобно скрученной трубе, в которую не попадет ни один звук, даже если стрелять в нее из пушки, именно так он засыпал и во сне почти всегда видел бесконечно большой пиджак.
Джун лежала, положив голову на грудь мистеру Райлу. Заниматься любовью той ночью, когда он возвращался, – это было немного лучше, немного проще, немного сложнее, чем любой другой ночью. Это было – как будто вспоминаешь что-то. Это было как будто боишься обнаружить что-то неведомое. Это было как будто тебе хочется чего-то необыкновенно прекрасного. Это было что-то вроде желания – немного сумасшедшего, немного дикого, которое не имело ничего общего с любовью. Здесь много всего соединилось.
А потом – потом они как бы начинали все с чистого листа бумаги. Из какого бы далекого путешествия ни возвращался мистер Райл, все тонуло в океане этих тридцати минут любви. И все начиналось с того момента, на котором они перед этим расставались. Секс может перечеркнуть целые куски жизни, представьте себе.
Как бы глупо это ни казалось, но людей порой охватывает странный, даже панический страх, и жизнь после этого сминается, как билетик, зажатый в порыве страха в кулаке. Отчасти случайно, отчасти по воле судьбы, в складках этой свернувшейся в клубок жизни исчезают печальные, подлые или так никогда и не понятые отрезки времени. Вот так.
Джун лежала, положив голову на грудь мистера Райла, а ее рука скользила по его ногам, то и дело касаясь его паха, потом – по всему его телу и опять возвращалась к ногам, – нет ничего прекраснее, чем ноги мужчины, – думала Джун, – если они такие красивые.
Она услышала тихий голос мистера Райла, и было заметно, что он говорил с улыбкой.
– Джун, ты ни за что не догадаешься, что я купил на этот раз.
Конечно же, ей ни за что не догадаться. Она свернулась на нем клубочком, нежно касаясь губами его кожи – нет ничего прекраснее губ Джун, – так думали все, – когда она вот так слегка касалась ими чего-нибудь.
– Ты можешь всю ночь напролет отгадывать и так и не догадаешься.
– Мне это понравится?
– Конечно.
– Понравится так же, как заниматься с тобой любовью?
– Гораздо больше.
– Какой же ты глупый.
Джун подняла на него взгляд, придвинулась к его лицу. В полутьме было видно, что он улыбается.
– Ну, так что же ты купил на этот раз, сумасшедший мистер Райл?
В десяти километрах от них на колокольне в Квиннипаке пробило полночь; дул северный ветер, и он доносил этот колокольный звон из города прямо в ту комнату, где они лежали. Когда раздается этот звон, кажется, будто удары колокола разрезают ночь на части, а время – это острый клинок, рассекающий на части вечность, – о, хирургия часов, – и каждую минуту оно наносит рану, чтобы самому спастись, а эти удары колокола цепляются за время, так оно и есть, потому что время отсчитывает усилия жизни, состоящей в том, чтобы считать минуту за минутой, именно это и значит – спасаться, – так оно и есть, правда, и трансцендентная узаконенность любого часового механизма, и мучительная сладость всякого колокольного звона осязаемо связаны со временем, для того только, чтобы установить некий порядок в постоянном электризующем крахе до и после каждого удара, – связаны диким страхом, истеричным педантизмом и нечеловеческой силой. И как у всякого панического ужаса, у нее есть свой ритуал, и ритуал этот состоит в постоянном преобразовании миллионов истеричных взрывов страха в один божественный танец на сцене, в котором человек способен двигаться как бог, – это некий ритуал, повторяю, и именно таков был ритуал башенных часов Гранд Джанкшн. В те времена в разных городах часы показывали разное время, – тысяча разных часов, – в каждом городе – свое собственное время, – вот, например, если у нас сейчас 14.25, то в другом месте – уже 15.00. В каждом городе были свои башенные часы, – а Гранд Джанкшн – это железнодорожная линия – одна из первых, которая, подобно трещине на вазе, пролегла по земле и по морю, от Лондона до Дублина. Она бежала, неся в себе свое время, скользящее между другими, как капля масла скользит по мокрому стеклу, – и у этой линии было свое собственное время, не такое, как в других местах, и на протяжении всего ее пути оно должно было оставаться неизменным, как какой-то драгоценный камень, чтобы каждая минута могла по нему свериться – она отстает или спешит, чтобы каждая минута могла осознать себя, и, значит, не сбиться, и, значит, – спастись, – этот поезд бежит и несет в себе свое собственное время, безразличное ко всякому другому времени, – и для этого поезда человек создал ритуал, священный и очень простой: