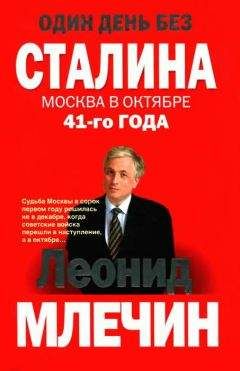Приехали мы к Дмитрию Николаевичу Ушакову. Он сидел в кресле у стола, заваленного бумагами, был бледен, небрит. Комуата заставлена чемоданами. Мы, перебивая друг друга, объяснили суть дела. Ушаков рассеянно нас выслушал и сказал:
— Какие могут быть экзамены? Давайте бумажку, я подпишу.
Эту бумагу — документ о сдаче госэкзаменов — я возила в сумочке, когда ехала в Сибирь. В конце ноября, когда моя одиссея подходила к концу, я купила на новосибирском вокзале полкило соленых грибов, черных, скользких шляпок. За неимением другой тары грибы я завернула в этот документ, благо бумага была большая, глянцевая, плотная. А потом ее, размокшую, выбросила. Впоследствии это обошлось мне в три года учебы в заочном пединституте. Без этого у меня считалось неоконченное высшее образование. Это снижало зарплату, а впоследствии снизило бы и пенсию…
В институте нам всем предложили ехать в министерство просвещения распределяться на работу. Я получила направление в Хабаровский край. Мой папа, который очень боялся, что немцы возьмут Москву, и старался спасти хотя бы меня (сам он был начальником госпиталя), достал мне место в эшелон, который уходил на восток.
Ночь на семнадцатое октября. Бомбили каждый день. Три часа мы с отцом сидели прямо на пощади Курского вокзала и ждали посадки в эшелон. Над нами скрещивались лучи прожекторов и трассирующие зеленые и красные пулеметные очереди. Где-то очень высоко загорелся немецкий бомбардировщик, потом второй, третий. Они упали далеко, не видно было. Я очень боялась. Потом пошла к эшелону, попрощалась, и папа ушел.
Поезд составлен из дачных вагонов, их тащит паровоз. Нас в вагоне более шестидесяти человек. Места сидячие. Здесь я жила около полутора месяцев. Когда выпал снег, мы купили железную печурку (буржуйку), около нее грелись. Топили углем, который воровали с платформ по ночам, пролезая на редких остановках под вагонами. В день нам должны были выдавать четыреста грамм хлеба, но это бывало редко. Чаще выдавали по четыре больших «армейских» сухаря. Кроме этого, у меня не было никакой еды. Не было и чайника. Кипяток мне давали из жалости, но редко. Я очень голодала. Однажды в привокзальном буфете нам без карточек дали по миске щей с куском свинины. В результате я заболела колитом, три дня лежала в бреду и не умерла, думаю, только по молодости лет. В эшелоне мы не мылись (не было воды), покрылись вшами. Спала я сидя, ноги у меня распухли так, что по окончании эпопеи валенки можно было снять только разрезав ножом…»
Другие ехали с большим комфортом. Советское общество было сословным и кастовым. Все зависело от занимаемой должности и принадлежности к той или иной группе. Скажем, Сталин высоко ценил идеологическую роль писателей и оделял их различными привилегиями. Впрочем, во время поспешной эвакуации из Москвы в октябре сорок первого в черный список попал и генеральный секретарь Союза советских писателей Александр Фадеев. Его обвинили в том, что он фактически бежал из столицы и бросил товарищей-писателей на произвол судьбы.
Вторым человеком в аппарате Союза писателей, ведавшим всеми организационными делами, был в ту пору Валерий Яковлевич Кирпотин, литературный критик, работавший в тридцатых годах в ЦК партии. Всю жизнь он вел дневник, опубликованный после его смерти.
«Писатели нашли свое место на войне, — отмечал Валерий Кирпотин. — Но есть случаи иного порядка.
Леонид Максимович Леонов желает добыть себе разрешение, официально оформленное, для отъезда. Мещанская суть его выразилась особенно в претензии, чтобы правительство взяло тридцать (и его, конечно, в том числе) писателей с семьями и поместило бы на время войны в санаторий. Хочется, чтобы пылинка не коснулась благообразного и добротного быта, хотя бы весь мир был в огне…
Видимо, действует он на переделкинцев. Погодин требовал отъезда в Ташкент, говорил, что иначе сопьется. Но очухался и засел писать пьесу. Хочет уехать Федин, но с соблюдением приличий. Трогателен Пастернак, который вовсе не трусит. Стоял на крыше, «ловил» немецкие «зажигалки». Находит прелесть в московской жизни без семьи, с опасностью, не теряет внутренней свободы…»
Все вели себя по-разному.
«Вернулись Фадеев и Шолохов, — пометил в дневнике Аркадий Первенцев. — Они были всего три дня на фронте. Сейчас Шолохов в «Национале». Так, конечно, можно воевать. Интересно, какие выводы он сделал из своей поездки по фронту?»
Писатели ждали эвакуации. Очевидцы писали о заискивающих голосах и бледных, потных лицах тех, кто добывал документы на выезд. По плану эвакуации посылали в Казань. Самые практичные просили Ташкент — там теплее и сытнее. Наиболее важные, номенклатурные писатели получали уверения в том, что они значатся в особом списке — их «вывезут в любую минуту и не допустят остаться на съедение врагу».
Выезд из Москвы контролировался партийным аппаратом.
Первый секретарь Сокольнического райкома партии Екатерина Ивановна Леонтьева жаловалась руководителям города:
— Повальное шествие в райком партии — командировки туда, командировки сюда. Везде визы стоят то начальника главка, то председателя какого-нибудь союза, объединения — «разрешаю», «разрешаю».
— А командировки куда? — поинтересовался Щербаков.
— Спрашиваем, куда командировки. Говорят, в Свердловск. А где семья? В Свердловске. Или командировка в Молотов (ныне Пермь. — Авт.) Спрашиваем — где семья? В Молотове. Недавно была командировка в Тамбов. Я спрашиваю — где ваша семья? В Тамбове. Были случаи со стороны начальников главков. Я имею в виду Главмуку. Они эвакуировали семьи, а теперь некоторые семьи возвращают, и тут у них находятся опять мотивы, аргументация — как бы семью вернуть. Или отправляют начальника отдела технического контроля макаронной фабрики в Иркутск. Я говорю: неужели нельзя найти другого человека? Отвечают: он незаменим. А как же фабрика? На этой фабрике настроение нездоровое, а главк и наркомат политически к этому делу не подходят.
— Это дезертиры и их покровители, — грозно констатировал Щербаков.
— У нас есть директор тароремонтного завода, — продолжала секретарь райкома. — Нам пришлось его вытащить на бюро и провести показательное совещание. Два дня для него чурки готовили на газогенераторной машине, и в воскресенье он делает до трехсот километров к своей семье. И здесь тоже пишет начальник — «разрешаю»!
Екатерину Леонтьеву взяли на партийную работу перед войной, первым секретарем райкома она стала в апреле сорок первого, а до этого работала заместителем декана исторического факультета Московского института истории, философии и литературы.
Валерий Кирпотин конечно же описал и 16 октября:
«Фадеев сидел дома напряженный, как струна, ждал, когда за ним приедут. Сам позвонить Щербакову не решался. Мне он сказал по телефону:
— Позвони Щербакову, назовись моим именем, и он возьмет трубку.
Я позвонил секретарю ЦК! Мне сказали:
— Его нет.
Я сказал Фадееву:
— Щербакова нет. Он воскликнул:
— Значит, он уехал!
Из этих слов я понял: он узнал, что хотел узнать.
— Не ехать — это измена, — добавил Фадеев. — Восстанови вагоны, которые были выделены писателям для эвакуации.
И я, не имея власти, пробивался на фантастически перегруженном Казанском вокзале через груду тел к каким-то дежурным, толкался, лез, наивно и самоотверженно выполняя невыполнимое поручение, которое должен был выполнить сам Фадеев со своей вертушкой, со своим положением члена ЦК…
Фадеев не имел права давать мне безнадежных поручений. Я не должен был вести себя, как добродетельная овца.
Фадеев уехал нормально, со всеми удобствами. Он знал, что я могу биться на вокзале головой о стену и ничего не добьюсь. Но он со свойственным ему в иные минуты цинизмом сделал меня потом козлом отпущения».
Аркадий Первенцев и Федор Панферов, крупные фигуры в писательском мире, пришли в здание Союза писателей. Спросили у Кирпотина:
— Какие новости?
— Звонил Фадеев. Он сказал, чтобы писатели выезжали, кто как может. Надежды на отдельный эшелон нет.
— Где Фадеев?
— Я пробовал с ним связаться. Его уже нет.
— Где Хвалебнова?
Ольга Александровна Хвалебнова служила в Союзе писателей партийным секретарем. Она была женой Ивана Федоровича Тевосяна, наркома черной металлургии. Взял ее в союз Фадеев, однокашник Тевосяна по Горной академии.
— Ее нет, — ответил Кирпотин.
— Они уже сбежали?
— Вероятно.
«Звонили в ЦК, — вспоминал Первенцев. — Ни один телефон не отвечал. Только телефонистки, несмотря на грядущую опасность, оставались на местах. Они не имели собственных или государственных автомобилей. Они не имели права покинуть посты. Только важные лица сбежали».
Писатели были недовольны своим генсеком, считая, что Фадеев перестал руководить Союзом писателей и плохо заботится о литераторах.