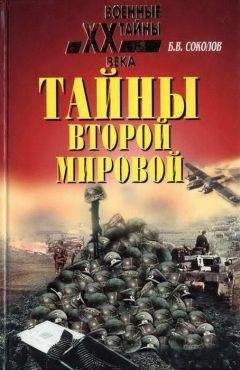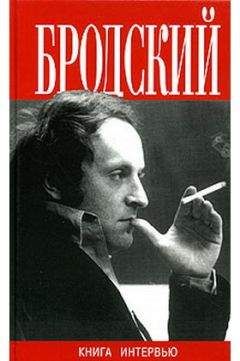Крючков скорее всех настиг пруссаков и врезался в неприятельский отряд, размахивая шашкой. Пруссаки окружили храбреца, и к нему с шашкой мчался прусский офицер, готовясь нанести удар. Один из подоспевших в тот момент товарищей Крючкова, заметив это, выстрелил и свалил офицера.
Крючков же, вложив шашку в ножны и выхватив винтовку, хотел выстрелить в неприятельского унтер-офицера, но тот ударом шашки рассек ему руку, и у Крючкова выпала винтовка. Снова выхватив шашку, Крючков рассек своему сопернику шею.
Едва успел Крючков разделаться с одним, на него бросились два пруссака с пиками наперевес, намереваясь вышибить его из седла. Снова вложив шашку, Крючков быстро схватил обе пики руками и сильно рванул на себя. Оба пруссака свалились на землю, а он, вооружившись неприятельской пикой, бросился на остальных немцев.
Скоро справились и с остальными, и из 27 человек немцев лишь трое успели ускакать, а 24 были убиты и ранены. Крючков, в самом начале боя получивший рану в руку, получил всего 16 ран в себя и 11 в лошадь (любопытно, что сумма ран, полученных Крючковым и его конем, равна общему количеству немцев, будто бы сражавшихся с отрядом Крючкова; данное обстоятельство может служить доказательством вымышленности всех этих цифр; вероятнее всего, такое совпадение произошло подсознательно. — Б.С.), один свалив одиннадцать человек немцев. За этот подвиг Кузьма Крючков награжден знаком отличия военного ордена первой степени (т.е. вне очереди, без получения трех предыдущих степеней. — Б.С.)»{570}.
Подвиг Крючкова отразился и в поэтических произведениях. В былине Владимира Вишнякова{571} памятный бой казаков Крючкова, Астахова, Иванькова и Щеголькова с отрядом прусских драгун описывался следующим образом:
В одной из первых стычек немцы пали,
Сраженные отважным казаком,
Вторым Ильею Муромцем. Лежат
Распластанные на земле ничком
Одни — пробитые казачьей пикой,
Другие же — немецкою, отнятой
У одного из них во время боя. Лихо
Крючков врубился в гущу толстопятых,
Опередив товарищей. С налету
Он их колол, чтоб впредь не воевали.
11 немцев положил он точным счетом,
И все б 12 у него под пикою лежали,
Да немцы во время от наших ускакали.
Запели в полночь петухи протяжно.
Зашевелились немцы, стали все рядком,
Взяв руки в бок, и важно
Разговорились об обиде, казаком им нанесенной.
«— Страм и только!
Всех нас побил один донской казак».
«— Он был один, а нас побито сколько!»
«— С позором помириться нам нельзя никак!
Гут, гут, я воль», — и тут же порешили,
Что раз 11 на одного убито казаком,
То впредь, чтоб русского осилить,
На одного не всемером,
А всем 11 ходить гуртом».
Вторая же часть былины посвящена казначею Соколову, при вступлении немцев в Калиш уничтожившем кредитные билеты и за это расстрелянного оккупантами. Этот подвиг-миф нельзя, однако, считать проявлением специфического жертвенного менталитета русских. В годы войны пропаганда всех стран прославляла подвиги гражданских лиц, казненных неприятелем. Можно вспомнить медсестру Эдит Кавель, расстрелянную немцами в 1915 году в Бельгии по неосновательному обвинению в шпионаже (в действительности она только оказывала помощь союзным пленным), из которой пропаганда стран Антанты сделала символ немецких преступлений, равно как и символ мужества простой женщины, не дрогнувшей перед лицом смерти{572}.
Что же касается образа Кузьмы Крючкова, то у Вишнякова он превратился в былинного русского богатыря, лихо орудующего сразу двумя пиками. Казак-удалец, один побеждающий 11 немцев, должен был убедить народ, что с супостатом можно будет справиться без особого труда. Позднее, когда война стала затягиваться, основной упор пропаганда стала делать на героях — солдатах и офицерах, бежавших из плена. Такие случаи, в частности, были единственным видом военных подвигов, который можно встретить в подшивке журнала «Нива» за 1916 год.
Гораздо более близкую к реальности картину боя Кузьмы Крючкова и его товарищей дал Михаил Шолохов в «Тихом Доне». Не исключено, что писатель опирался на устные рассказы казаков, знавших участников знаменитой схватки. В 8-й главе 3-й части 1-й книги романа читаем: «Дрожа отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь. Палаш не доставал, и немец, кинув его, рвал из пристроченного к седлу желтого чехла карабин, не спуская с Иванкова часто мигающих, напуганных коричневых глаз. Он не успел вытащить карабин, через лошадь его достал пикой Крючков, и немец, разрывая на груди темно-синий мундир, запрокидываясь назад, испуганно-удивленно ахнул:
— Мейн готт!
В стороне человек восемь драгун огарновали Крючкова. Его хотели взять живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь всем телом, отбивался шашкой до тех пор, пока ее не выбили. Выхватив у ближнего немца пику, он развернул ее, как на ученьи.
Отхлынувшие немцы щепили ее палашами. Возле небольшого клина суглинистой невеселой пахоты грудились, перекипали, колыхаясь в схватке, как под ветром. Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили по чем попало: по спинам, по рукам, по лошадям, по оружию… Обеспамятевшие от смертного ужаса лошади налетали и бестолково сшибались. Овладев собой, Иванков несколько раз пытался поразить наседавшего на него длиннолицего белесого драгуна в голову, но шашка падала на стальные боковые пластинки каски, соскальзывала.
Астахов прорвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке. Немцы, все израненные нелепыми ударами, — потеряв офицера, рассыпались, отошли. Их не преследовали. По ним не стреляли вслед. Казаки поскакали напрямки к местечку Пеликалие, к сотне; немцы, подняв упавшего с седла раненого товарища, уходили к границе».
У Шолохова подвиг совершают люди, «озверевшие от страха», впервые в жизни вынужденные убивать. Оттого так неумелы их удары. И лишь один человек гибнет в этой бестолковой схватке. Нет тут Кузьмы Крючкова, нанизывающего немцев на две пики, нет 24 убитых и раненых немцев.
Писатель показывает нам, как рождался миф: «Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его реляции получил «Георгия». Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста за то, что из Петербурга и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и господа офицеры (в действительности Крючков сразу был удостоен солдатского «Георгия» первой степени. — Б.С.)…
Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов. Были папиросы с портретом Крючкова. Нижегородское купечество поднесло ему золотое оружие…
А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались нравственно искалеченные. Потом это назвали подвигом».
В романе Шолохова отразился и подвиг рядового Давида Выжимка. Будучи вестовым у гусарского офицера, он вынес своего начальника, тяжело раненного в голову, с поля боя. Выжимок тащил офицера по вражеским тылам целых 6 верст. За этот подвиг он был удостоен Георгиевского креста 4-й степени{573}. Главный герой «Тихого Дона» свой первый «Георгий» получил за спасение командира драгунского полка Густава Грозберга, которого он, раненного в живот и сам раненный в голову, вынес на себе из-за линии фронта. В отличие от лубочного Выжимки газетных реляций, не испытывавшего ни тени сомнений и колебаний в осуществлении своей благородной миссии, шолоховский Григорий — живой человек, сам страдающий от раны: «Офицер потерял сознание. Григорий тащил его на себе, падая, поднимаясь и вновь падая. Два раза бросал свою ношу и оба раза возвращался, поднимался и брел, как в сонной яви.
В одиннадцать часов утра их подобрала команда связи и доставила на перевязочный пункт».
Здесь художественное произведение корректирует патриотический миф в сторону приближения к реальности. Однако это происходило только по отношению к мифологизированным подвигам Первой мировой войны. Советская пропаганда представляла эту войну империалистической, несправедливой для всех стран-участниц, в том числе и для России. Поэтому мифы 1914–1916 годов можно было подвергать критике. По отношению к ним была приемлема концепция Шолохова, согласно которой подвиги совершаются почти бессознательно, едва ли не от страха или в полузабытьи. Иное положение создалось по отношению к мифам Великой Отечественной войны. Здесь требовалось представить героев сознательными борцами за Родину и коммунизм. В советской литературе за послевоенные десятилетия не появилось ни одного произведения, где давались иные версии, отличные от официальной, подвигов 28 героев-панфиловцев, 5 моряков-севастопольцев, Александра Матросова, Николая Гастелло и других героев. Здесь дело было не только в жесткой цензуре, но и автоцензуре самих писателей. Даже такой критически мыслящий автор как Андрей Платонов искренне и целиком поверил в пропагандистский миф и довольно точно воспроизвел его в своем рассказе военного времени.