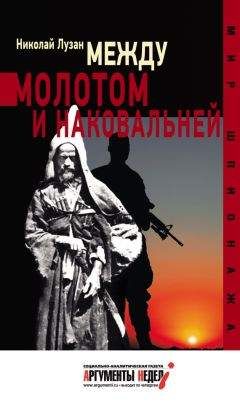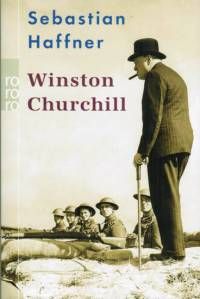Дождь на короткое время прекратился, и в наступившей тишине стал отчетливо слышен шум поднимающейся по серпантину машины. Не прошло и минуты, как на стоянке перед гостиницей пронзительно взвизгнули тормоза, затем торопливо хлопнула дверца и на ступеньках дробно застучали каблуки армейских ботинок. Прошло несколько мгновений, и в холле зловеще заклацали затворы пулеметов и автоматов, потом тревожно проскрипела входная дверь, и топот ног грозным эхом пошел гулять по склону горы.
Сердце в моей груди екнуло и провалилось куда-то вниз, рука сама потянулась к пульту, и через мгновение экран телевизора безжизненно погас. На всякий случай, чтобы не стать хорошей мишенью для снайпера, я выключил настольную лампу и весь обратился в слух. Разыгравшееся воображение рисовало крадущихся по расщелине автоматчиков и изготовившихся к стрельбе гранатометчиков, но проходила минута за минутой, и ничего ужасного вокруг не происходило.
Тусклый диск луны, на секунду проглянувший из-за туч, неверным призрачным светом осветил окрестности парка. Ставшая за это время хорошо знакомой территория ночью утратила привычные очертания. Раскидистые кроны эвкалиптов напоминали собой мохнатые папахи джигитов. Пышная финикийская пальма, росшая перед входом в столовую, походила на огромный белый гриб. Мрачным забором вытянулись к небу секвойи и ели. За ними, где-то в глубине парка, несмело раз-другой глухо ухнул филин, ему безмятежно вторил сыч. Птицы не чувствовали опасности, и у меня на сердце отлегло. В очередной раз тревога оказалась ложной, группа разведки благополучно возвратилась обратно, и снова в гостинице и на позициях наступила томительная пауза.
На этот раз она оказалась недолгой, вновь на серпантине натужно заурчал мотор автомобиля. Я приподнялся из кресла и приник к окну. Яркий сноп света полоснул по стеклу, на секунду ослепил глаза и затем потерялся в тумане, косматыми волнами наплывавшего из темного, поросшего непроходимыми джунглями бамбука и банана провала. Перед гостиницей разворачивался джип телекомпании НТВ, последний раз устало вздохнул перегретым двигателем и затих. Из машины выбрались московский корреспондент Вадим Фефилов и оператор. Прикрывая камеру плащами от начавшего моросить дождя, они торопливо поднялись по скользким ступенькам в холл гостиницы, и тот, словно пчелиный улей, отозвался гулом возбужденных голосов.
Вадим здесь давно уже стал своим. За два с лишним месяца он познал Абхазию, а она его. Но тогда, в конце сентября, отправляясь из Москвы в командировку, Вадим, как и большинство журналистов, ничего не подозревал и рассчитывал отснять дежурный репортаж о триумфальной победе того, кого ретивые и самоуверенные московские чиновники преподнесли Президенту России как единственного и последнего после Владислава Ардзинбы несгибаемого борца против совершенно «отвязавшегося» Саакашвили.
На этот раз Вадим приехал из штаба Сергея Багапша и принес добрую весть. Мераб Кишмария, который, по последним слухам, во главе штурмового отряда якобы уже должен был занять исходные рубежи для атаки на позиции «хаджимбистов» у турбазы «Абхазия», в это самое время мирно пил кофе с друзьями, а его малолетний племянник разбирал автомат. «Разоружение» грозного генерала стало, пожалуй, самым весомым аргументом его мирных намерений, и на Вадима посыпался град вопросов:
— А что делает Багапш?!
— Где Лакоба?
— Так это брехня, что они подняли танковый батальон?
— И все-таки, что делает Багапш? — торопили с ответом Вадима.
— В своем штабе ведет переговоры с Бабуриным, — коротко ответил тот.
— И… как?! — дрогнул чей-то голос.
— Не знаю. Они идут за закрытыми дверьми.
— А Рауль с ними?
— Не знаю!
— Может, договорятся?! — выразил кто-то общее для всех желание.
— А как Лакоба? Он что говорит? — кого-то все еще продолжали грызть сомнения.
— Утром в новостях узнаете.
— Так он не в Гаграх армян поднимает?!
— Армяне в Ереване, а он на Гоголя, — попытался отшутиться Вадим.
— Точно на Гоголя?!
— Точнее быть не может. Я только что закончил снимать с ним репортаж.
— Значит, сегодня ничего не будет! Теперь хоть отоспимся, — заключил Отар.
— Смотри, чтобы на том свете не проснулся! — предостерег угрюмый бородач и трижды постучал по прикладу «ручника».
Но на это предупреждение уже никто не обращал внимания. В холле пронесся общий вздох облегчения, и все вдруг разом и наперебой заговорили, а затем принялись похлопывать по спине Вадима. Он, смущенно пожимая плечами, пробрался к стойке, чтобы взять ключ от номера. Оксана встрепенулась, посмотрела на его осунувшееся от усталости и недосыпания лицо и предложила свой знаменитый среди постояльцев гостиницы кофе по-турецки, но Вадим лишь вымученно улыбнулся в ответ и, тяжело ступая, зашагал вверх по лестнице.
Острый на язык Аслан не удержался и пошутил ему вслед:
— Вадим, пока не поздно, пусть тебе из Москвы шапку с тулупом пришлют! А то с нашими выборами ты здесь точно зимовать останешься!
— По мне, так лучше с вами, чем с моим цербером-редактором, — не остался в долгу Вадим.
После этого в холле обстановка окончательно разрядилась. Бойцы разбрелись по свободным номерам, с постов вернулись группы усиления, и вскоре в баре зазвучала приглушенная музыка. Мелодичный и нежный голосок Жасмин напомнил, что где-то там, за бурной и клокочущей в бурунах Псоу, люди по-прежнему пели, радовались и веселились. Здесь же, на госдаче, уже вторую неделю находящейся на осадном положении, было не до веселья, но жизнь все-таки брала свое. Стук костей по доске — это играли в нарды бойцы из резервной дежурной смены, повеселевшие голоса Оксаны и Индиры, грохот посуды в баре и задорный свист чайника на плите на время заставили отвлечься от назойливых мыслей о том, что это хрупкое мирное равновесие в любой момент мог обрушить шквал автоматных и пулеметных очередей.
У меня тоже отлегло от сердца. Усталость и нервное напряжение последних дней сказались и на мне. Я прилег на кровать и не заметил, как уснул. В сумеречном сознании, подобно цветному калейдоскопу, перемешались лица и события последних месяцев, которых в той, другой моей жизни — размеренной, начинавшейся в семь и заканчивавшейся ближе к полуночи, с лихвой хватило бы не на один год. Проснулся я от яркого света, бившего прямо в лицо, и когда глаза освоились, то увидел перед собой моих испытанных друзей — Ибрагима с Кавказом. Их вид невольно заставил меня приподняться, сердце внезапно сжалось, и леденящий холодок обдал грудь.
Пятнистый камуфляж плотно облегал их ладные фигуры — фигуры настоящих воинов. Широкие пояса от армейской портупеи обвисли под тяжестью «беретты» и «браунинга», рукояти которых тускло поблескивали в потертых кобурах. В тени, что отбрасывал платяной шкаф, лица моих друзей напоминали застывшие маски — у рта залегли жесткие складки, во взгляде появился стальной блеск, а черная повязка покрыла лоб и тугим узлом заплелась на затылке. На правой руке Кавказа, как и тогда, в октябре 2001 года, когда он с разведывательной группой уходил на операцию против банды Гелаева в Кодорское ущелье, на безымянном пальце снова появился загадочный массивный перстень со снежным барсом, изготовившимся к прыжку.
В этот миг они, сами того не подозревая, поразительно напоминали другие — давно уже позабытые образы с выцветших и пожелтевших от времени фотографий. Фотографий из фамильных альбомов Авидзба и Атыршба, со страниц которых, так же как и сейчас Ибрагим и Кавказ, смотрели прямым и жестким взглядом воина их далекие предки.
Они — махаджиры, отказавшиеся сдаться войскам генералов Святополка-Мирского, Лорис-Меликова, Багратиона-Мухранского и полковника Коньяра, предпочли свободу и скитания позорному плену. И сегодня они будто снова ожили и сошли с фотографий. Строгие черные черкески подчеркивали горделивую осанку и могучий разворот плеч, а их широкие и длинные полы, подобно орлиным крыльям, трепетали на ветру. Изящные, украшенные серебряной инкрустацией работы лучших самурзаканских мастеров ножны и рукояти кинжалов говорили о том, что не одно столетие они верно служили своим хозяевам. Руки воинов твердо лежали на рукоятях и говорили об их решимости без колебаний отдать жизнь за свободу и друга.
Я смотрел на Ибрагима с Кавказом, так поразительно походивших на своих далеких прадедов, и вздрогнул от внезапно пронзившей меня мысли: «Неужели спустя сто сорок лет все повторится сначала?!..Неужели им и еще сотням добровольцев из Турции, Иордании, Сирии и Ливана, бросившим блестящую карьеру, отказавшимся от сытой и устроенной жизни и по зову сердца безоглядно ринувшимся в пламя разгоревшейся в Абхазии в августе 1992 года войны, предстоит стать махаджирами XXI века?!
Неужели в эту сумасшедшую декабрьскую ночь 2004 года, как и тогда — в середине позапрошлого века, подлое коварство и вероломство соседей посеет рознь среди абхазов и разожжет пламя взаимной подозрительности и ненависти?