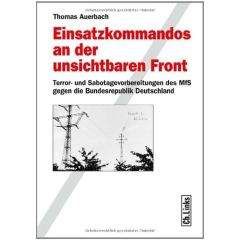Идти к нему в гостиницу не хотелось, встреча у меня дома тоже была нежелательной. Так что часа два мы с ним гуляли у нас перед домом в парке.
Говорили о разном.
Он рассказал о своей встрече с Шелепиным и поделился намерением выступить на пленуме с критикой Брежнева.
Я кивнул в знак поддержки такого намерения и оглянулся по сторонам. Мой опытный глаз заметил штук пять автомобилей с чекистами. Было ясно, что запрет подслушивать и следить за членами Центрального Комитета и другими высокопоставленными функционерами, строго соблюдавшийся в мое время, предан забвению. Подозрение переходило в уверенность. Даже соседский сын, увидев из окна всю эту картину, поспешил в парк с детской коляской и предупредил нас о слежке. Мы откровенно стали рассматривать чекистов, чтобы те поняли, что раскрыты.
Елистратов вернулся к себе в гостиницу. На другой день он не пришел на пленум. Ночью к нему в номер спустились его «друзья» по работе в Азербайджане — генерал Цвигун и Алиев, пришли вроде бы проведать и поговорить. Заказали ужин. А ночью «скорая помощь» увезла Елистратова в больницу, где он и находился до конца пленума. Официальный диагноз: «тяжелое отравление алкоголем». Что же касается Цвигуна и его друга Алиева, то они на другой день были в полнейшем порядке и присутствовали на заседании. Более того, они сели слева и справа от меня как старые знакомые, но мне-то была понятна эта «рассадка».
Елистратова в итоге не избрали в новый состав ЦК, а потом и вовсе отправили экономическим советником в Афганистан.
Еще не зная всего, что случилось с Елистратовым, по дороге из дома на пленум я был в высшей степени осторожен.
У меня было недоброе предчувствие, да я и имел на это право. А разве трудно устроить так, думал я, что по пути в Кремль случится небольшое дорожно-транспортное происшествие, и мне придется остаться на месте как свидетелю или — в худшем случае — отправиться в больницу для осмотра или лечения? И все, из-за чего я так стремился в Москву, потеряло бы свой смысл.
От моего дома до Кремля недалеко, примерно полчаса ходьбы. Когда вышел из дома, вроде бы ничего особенного не заметил, а выйдя на улицу Герцена, которая прямо идет на Манежную площадь перед Кремлем, вдруг обнаружил, что за мной следят.
Одного из тех, кто шел за мной по пятам, я знал в лицо. Это был сотрудник КГБ, я его видел на каком-то инструктаже. Потом обратил внимание на женщину на другой стороне улицы. Хотя шли они порознь, но работали вместе.
Так мы дошли до самой Манежной площади, а у перехода к Кремлю задержались. Здесь всегда много машин, да я и нарочно остановился. Моим наблюдателям спрятаться было некуда — недалеко был только табачный киоск. Мужчина, чтобы чем-то заняться, подошел к киоску. «Хорошо же, — злорадно подумал я про себя, — сейчас я тебя проучу!» Молниеносно ушел за угол здания и там остановился.
Все это длилось несколько мгновений. Мой преследователь, выйдя из-за киоска и не обнаружив меня, заметался. В тот момент, когда он мчался мимо моего укрытия, я вышел и остановил его:
— Теперь отправляйся к своему начальнику и скажи ему, что плохо работаешь, — приказал я ему, как в старые времена. — Ты потерял объект наблюдения, и более того — я тебя разоблачил!
Само пленарное заседание стало чистейшей воды комедией. На пленуме отсутствовали более пятидесяти человек, которых не пожелали пригласить. Вначале было решено раздать отчетный доклад всем членам ЦК, а затем собраться и обсудить его. Но произошло непонятное: Брежнев за пятнадцать минут доложил основные тезисы, то же самое сделал Косыгин, и пленум, который должен был работать целый день, завершился через сорок минут после начала. Дискуссии не было.
На XXIV съезд КПСС меня уже не позвали, мотивируя это тем, что члены ЦК, не избранные делегатами съезда, не приглашаются. Так мне объяснил Щербицкий. Идти же туда по удостоверению члена ЦК, без приглашения я счел для себя унизительным.
От мысли выступить открыто с критикой Брежнева, если она и возникала у меня в голове, я окончательно отказался. Кто бы меня поддержал? Опубликовать что-то подобное в печати тоже было невозможно.
Но я по-прежнему верил в советскую систему, верил даже тогда, когда ее высший руководитель немногого стоил…
Почему Брежнев так боялся, что кто-то из нас — я, Шелепин или Елистратов — появится на пленуме?
Брежнев опасался, что кто-то из бывших комсомольцев, а особенно А.Н. Шелепин или я, при обсуждении отчетного доклада выступит и расскажет о методах управления, руководства и обо всем прочем — то что знали мы с Шелепиным, знали больше, чем сам Брежнев знал о себе, потому что такова наша участь, как и у всех тайных советников.
Но тут уже было так — «мавр сделал свое дело, мавр должен удалиться», исчезнуть с глаз долой и не мельтешить.
Петр Ефимович Шелест только подыгрывал Брежневу, он был исполнитель. Это он потом осознал, и в дневнике записал, как мне говорил, и сокрушался, что неправильно поступили и с Шелепиным, и со мною особенно. Но это уже было потом.
Некрасиво расстался Брежнев с Шелестом, служившим ему верой и правдой. И прежде всего потому, что Шелест, да и Подгорный имели привычку высказывать свое мнение, задавать вопросы, которые не нравились Брежневу и его окружению.
Но главное — это продолжение той войны, которую Шелест вел с Щербицким.
Щербицкий был лучшим другом Брежнева. Оба из Днепродзержинска, из одного, как говорят, хутора. Они друг друга всегда поддерживали.
Не один раз споры между Шелестом и Щербицким возникали на самом Политбюро. Трения были и в процессе работы. Нет-нет да и у Щербицкого иногда прорывалось недовольство, и среди министров шли разные разговоры. Проблема заключалась в том, что министры иной раз оказывались между молотом и наковальней: Шелест одну линию гнул, Щербицкий — другую.
«Победил» в этом противостоянии в конце концов Щербицкий.
Когда Шелест покидал Украину, мы с ним не попрощались: он понимал, что должен будет мне что-то сказать… И правильно сделал — не поставил и меня в ложное положение.
Шелест не был авторитарным руководителем, как некоторые сейчас хотят его представить. Да в тех условиях, при наличии Политбюро ЦК КП Украины, это было не так просто. И со стороны ЦК КПСС контроль осуществлялся такой, что куда там! Шаг лишний не мог сделать первый секретарь республики — все было под контролем.
Правда, директорские замашки у Шелеста остались: позволял себе и недопустимую резкость тона, и недипломатические выражения. Даже иногда на заседании Политбюро мог очень грубо отчитывать.
Шелест не очень корректно вел себя и с министрами Союза, которые довольно часто приглашались при рассмотрении какого-нибудь вопроса по Украине. Он мог и отчитать их, и предъявить претензии в довольно резкой форме, я бы сказал, довольно бестактно. Причем иногда по делу, а иногда и без дела — просто для демонстрации своей власти.
Помню, был громкий скандал, когда Шелест решил, что Украине хорошо бы самой заняться внешнеторговыми делами, выйти из-под опеки Внешторга и всех внешнеэкономических учреждений и ведомств Москвы. Мол, Украина способна сама вести внешнеторговые операции без оглядки и согласования с Москвой, с центром.
Это вызвало резко негативную реакцию в Москве. На Политбюро ЦК КПСС состоялся, насколько мне известно, довольно серьезный разговор, где Шелеста здорово «повоспитывали».
Как раз в то время на Украине произошел еще целый ряд событий. Например, у оперного театра в Киеве стоял на постаменте бюст Пушкина. Его снимают и переносят к заводу «Большевик», на окраину Киева, а на это место водружают памятник Лысенко. Ряд улиц переименовывают. В частности, вместо фамилий русских писателей появились фамилии писателей украинских.
На официальных больших заседаниях — пленуме ЦК или профсоюза, если кто-то выступал на русском языке, Шелест мог из президиума на весь зал спросить:
— А почему вы на русском языке говорите? Надо бы на украинском.
Так происходило несколько раз, и запомнилось, расползлось по Украине. Воспринялось сразу как противопоставление украинцев русским.
И сами украинцы масло в огонь подливали: они всегда на первое место ставили свою «самостийность», «незалэжнесть» и прочие националистические штучки. Это было для них главным. Они считали, что их все время кто-то обижает, объедает, обирает. (А сейчас сами народ свой прокормить не могут.)
Примеров тому много. Как-то прихожу в оперный театр. Директор встречает меня. Идет «Пиковая дама» на украинском языке. Я спрашиваю:
— А в Киеве разве не знают русского языка, поэзии Пушкина? Тем более и музыка русского композитора. Вы пытаетесь итальянские вещи петь на плохом итальянском языке, а русскую оперу на украинскую мову переводите. Почему?
— Ну, если этого не делать, — вполне серьезно говорит директор, — то украинцы никогда не будут знать русской культуры.