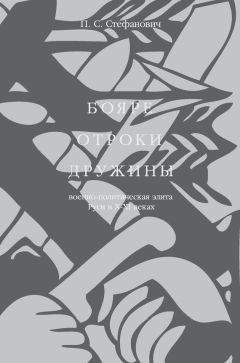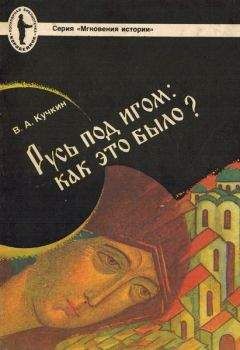В договорах руси и греков 911 и 944 гг. слово бояре употребляется наравне со словом князья для перевода одного греческого слова и обозначает лишь очень узкий правящий слой руси – неких предводителей или quasi-правителей, возглавлявших какие-то территории в составе «Русской земли» и признававших верховную власть киевского князя. В середине X в. их было 24 человека (не считая киевского князя). Очевидно, в эту эпоху употребление слова бо(л)ярин ещё не устоялось, и его содержание не вполне определилось. В договоре 944 г. те, кого позднее стали называть боярами, выступают как посланники («слы») князей-бояр/«архонтов». В оригинальных древнерусских источниках никаких намёков на существование этих «архонтов» не обнаруживается. Видимо, в правление Владимира Святославича устанавливается социально-политическая структура, сохранявшаяся очень долго, – князья одного рода выступают правителями «под рукой» «старейшего» в роду, но фактически (полу-)независимо, а опираются на элиты, которые концентрировались в ряде городских центров. В XI в. крупнейшим таким центром был Киев.
Эти элиты, на которые опирались князья в XI в., состояли из трёх главных элементов – знати (боярства), городской верхушки (купцов/гостей) и воинов на содержании князей (гридей/отроков). Место последних в элите было обусловлено только их особым военным значением и относительной многочисленностью, и позднее они теряют это место. Разумеется, князья хотели как-то выдвинуть, поощрить и защитить своих слуг, поэтому, в частности, в «Русской Правде» предусматриваются для них особые виры. Городская верхушка выделялась, главным образом, своей экономической ролью, и лишь в кризисные моменты, в ситуации вакуума власти, она, вставая во главе городского веча, могла выступать и политически значимой силой. Значение боярства было заметно по разным параметрам – и в экономическим плане, и в военном, и, главное, в политическом. Выделяясь в разных отношениях, боярство фактически представляло собой высший социальный слой, и к его представителям наиболее подходящим были определения славный и честный, указывавшие на почёт и авторитет, которыми они пользовались в обществе.
Надо подчеркнуть, что разные признаки, выделявшие боярство в особо выдающийся слой, были неразрывно связаны между собой. В историографии предпринимались попытки выделять по этим признакам – прежде всего, разделяя политическую роль и материальный достаток, – некие группы внутри этого слоя или даже предполагать два «параллельных» слоя знати, но эти попытки не представляются убедительными. У бояр домонгольской эпохи политическое значение, то есть доступ к доходным должностям, было неразрывно связано с экономическим положением (богатством) – одно было одновременно условием и следствием другого. Виры, которые упоминаются в «Русской Правды», и умолчание её о боярах не могут служить основанием для каких-либо социально-юридических построений. «Русская Правда» упоминает о повышенных вирах, в основном, для тех категорий населения, которых хотели специально защитить князья; бояре же и так были защищены «обычным правом».
Противопоставление бояр на «земских/местных» и «служилых/дружинных», принятое в историографии, не подтверждается источниками. Никаких местных вождей или общинных лидеров ни под именем бояр, ни под другими обозначениями мы не видим. Те представители знати, которые упоминаются по именам, все указываются в источниках как состоящие на службе князьям – от Свенельда до Яня Вышатича или Ивора, посланного в 944 г. князем Игорем в Византию, до тех «мужей», которые вместе с князьями участвовали в принятии законов, вошедших в состав «Русской Правды» (см. заголовки «Правды Ярославичей» в «Краткой редакции» и «Устава Владимира Всеволодича» в «Пространной»).
Вместе с тем, не следует абсолютизировать служебные отношения бояр с князем, отрицая, например, что у них могли возникать какие-либо привязанности к той местности, где они жили. В рассказе ПВЛ о событиях 1018 г. в Новгороде фигурируют бояре, выступающие как часть городской общины. От времени с конца XI и до середины XIII в. происходит ряд свидетельств, что те или иные представители знати были связаны с тем или иным городом или землёй, в том числе и из поколения в поколение, но при этом служили князьям Рюриковичам из разных родовых линий, сменявших друг друга в этом городе или земле[1103].
Вне сомнения, княжеское покровительство было мощным фактором продвижения по социальной лестнице. Но князья не должны были, да и не могли иметь ничего против передачи боярского статуса по наследству. Применительно ни к XI в., ни вообще к домонгольской эпохе нельзя говорить о прирождённых правах боярства или боярстве как сословии, но de facto принадлежность к этому слою передавалась, видимо, преимущественно по наследству. Во всяком случае, в рассказе Жития Феодосия о боярине Иоанне и его сыне, принявшем иноческий образ под именем Варлаама, такая наследственность подразумевается как нечто естественное. Как явствует из рассказа о Владимире Мстиславиче и его боярах, в середине XII в. звание боярина подразумевает уже целый набор признаков, приобрести которые на практике было сложно, фактически едва ли только не унаследовав их. Сообщение о провале попыток князя произвести в бояр своих детских приводится в летописи в таком само собой разумеющемся тоне, что складывание ограничений доступа в боярский слой надо относить к гораздо более раннему времени.
Под именем боярства уже в XI в. выступает такой слой, который по основным внешним параметрам вполне соответствует знати (нобилитету) раннесредневековых государств Европы до эпохи складывания рыцарского сословия. Нет оснований говорить о каких-то принципиальных разрывах или переломах в эволюции этого слоя в конце ХI-го в. или в XII в. или вообще в какой-то момент до монгольского нашествия. Скорее надо вести о речь о том, что уже в XI в. на Руси обозначились признаки тех главных процессов, которые связываются с эволюцией этого слоя в Средневековье, – перерастание фактической обособленности социального слоя в юридически закреплённые привилегии, внутренняя дифференция, подразумевающая формирование слоя низшей знати, и развитие крупного землевладения, основанного на труде зависимых крестьян. Не следует искать корни своеобразных черт, присущих знати Московского государства XVI–XVII вв. и отличавших её от знати других европейских стран, в древнерусской истории ранее середины XIII в. Они являются, очевидно, продуктом процессов, которые начали развиваться лишь в условиях монгольского ига или даже в ходе освобождения от него.
Популярная в средневековой Европе «социологическая модель», разделявшая общество на oratores, bellatores, laboratores («молящихся», «воюющих» и «трудящихся (пашущих)»)[1104], была известна и на Руси. Последовательного развития в древнерусской книжности она не нашла, но имплицитно знание о ней или намёки на неё можно обнаружить в некоторых древнерусских произведениях – как оригинальных, так и основанных на переводных сочинениях. Например, в одном из постановлений Стоглавого собора (1551 г.) пересказывается некое толкование на 23-е правило VI-го Вселенского собора, и говорится о доходах духовенства в сравнении со светским обществом:…вси бо дают, и богатии, и убозии, и нищия, своего ради спасения, священнии же и пищу, и прочая потребы от сих себе имеют, якоже и земледелатели от плода вкушают труда своего и якоже воини воинствующеи оброки своими довлеются…»[1105] «Священнии», «земледелатели» и «воини» здесь прямо соответствуют oratores, laboratores nbellatores.
В одном из древнейших текстов, созданных на Руси, «Памяти и похвале князю Владимиру» Иакова Мниха (середина – третья четверть XI в.) в рассказе о щедрости Владимира Святого тоже можно увидеть отражение этой трёхчастной модели. Среди прочего Иаков упоминает О пирах, которые устраивал князь: «Три трапезы поставляше, первую митрополиту съ епископы, и съ черноризцѣ, и с попы, вторую нищимъ и убогымъ, третьюю собѣ и бояромъ своимъ и всимъ мужемъ своимъ…»[1106] В устройстве разных «трапез» сказывались, очевидно, представления о разделении в обществе: один круг людей составляет духовенство, другой– нищие и убогие, третий– князь со своими «мужами».
Это – самое элементарное социально-функциональное деление, и, конечно, современные подходы к общественной дифференциации едва ли принимают его в расчёт. Такого рода упоминания ценны не столько фактической информацией о социальных группах, сколько как свидетельства «представлений общества о самом себе». Эти известия из древнерусских источников показывают, что сами современники сознавали определённые различия в их обществе как принятые и «нормальные», и, в частности, таким общепринятым было выделение в обществе неких лиц, которые ничего не производят, но в праве претендовать на плоды чужого труда. Одного этого сознания «легитимности» социальных различий достаточно, чтобы не рассматривать раннесредневековое общество как некую «общинность».