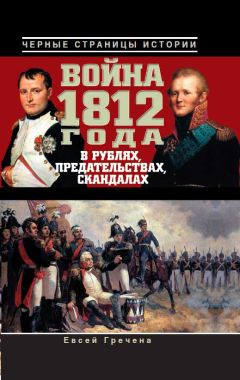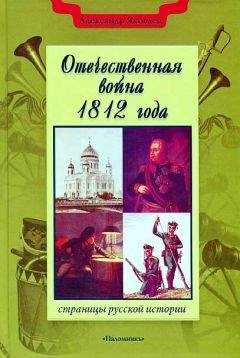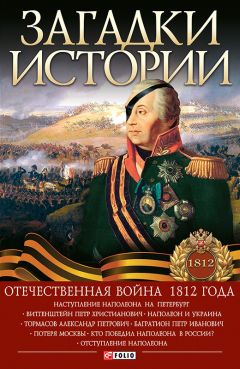К этому времени в ходе борьбы за Смоленск «потери русских составили свыше 11 тысяч человек», а «убыль в рядах Великой армии была, по русским исчислениям, около 14 тысяч человек, по французским данным — 6–7 тысяч человек».
Подобное вполне укладывалось в план Барклая, состоявший в том, чтобы «задержать противника и нанести ему как можно больший урон».
Важно отметить, что решение Барклая об отступлении было как нельзя более своевременным, ибо в результате ожесточенного артиллерийского обстрела (французы установили против города около ста орудий) бревенчатые предместья Смоленска оказались в огне и оборонять их стало практически невозможно. К тому же, как известно, сгоревший город оборонять нет никакой целесообразности.
Генерал М. И. Богданович утверждает, что Барклай, «принимая на себя оборону Смоленска, уже имел в виду дальнейшее отступление».
С другой стороны, «вулканический» князь Багратион, напротив, хотя формально и подчинился Барклаю, но полагал, что «должно было отстаивать Смоленск до последней крайности».
Его аргументация, как мы уже знаем, была проста до неприличия: «Неприятель <…> есть сущая сволочь <…> Мой маневр — искать и бить! <…> Войска их шапками бы закидали».
В соответствии с этими «мудрыми» установками, уже 5 (17) августа он начал писать жалобы на Барклая, обвиняя его во всех смертных грехах и утверждая, что Смоленск представляет собой «немалую удобность к затруднению неприятеля», а также «к нанесению ему важного вреда». Он даже договорился до того, что «при удержании Смоленска еще один или два дня неприятель принужден был бы ретироваться».
«Читая подобные рассуждения, — недоумевает историк С. Ю. Нечаев, — начинаешь думать, что князь Багратион, не видевший никаких иных способов ведения операций, кроме наступательных, не слишком хорошо представлял себе реальное положение дел под Смоленском. Ну, в самом деле, о каком отступлении французов могла в тот момент идти речь?»
А реальное положение дел было таково (и это четко отражает в своих «Записках» генерал Ермолов), что «несправедливо было бы упрекать генерала Барклая де Толли отступлением. При Смоленске видно было превосходство сил неприятельских, и точнейшие полученные сведения делали его необходимым».
Как утверждает биограф Багратиона Е. В. Анисимов, князь «имел серьезный недостаток как полководец и человек — в какой-то момент он оказывался не в состоянии взвешенно и хладнокровно проанализировать ситуацию, в которой оказывались другие, и торопился с осуждением: он не хотел и допустить, что в своем поведении Барклай руководствуется иными мотивами, кроме трусости, бездарности, нерешительности или измены».
* * *
Наблюдая за продолжавшейся не первый день напряженностью в отношениях двух командующих армиями, некоторые русские генералы делали все, чтобы подтолкнуть князя Багратиона к еще более решительным действиям, направленным против Барклая. Особенно в этом смысле старался А. П. Ермолов, по словам историка В. М. Безотосного, «державший нити многих интриг в своих руках».
Историк С. П. Мельгунов пишет: «Вокруг него (Барклая де Толли. — Ред.) кишела зависть и борьба. „Всякий имел что-нибудь против Барклая, — вспоминает генерал Левенштерн, — сам не зная почему“. Все действия главнокомандующего критиковались; без „всякого стеснения“ обсуждались его „мнимые ошибки“. Действительно, против Барклая в полном смысле слова составился какой-то „заговор“, и заговор очень внушительный, судя по именам, в нем участвующим».
Этот «генеральский заговор» — пусть он и не выливался ни в какие организационные формы — но выражался в некоем единодушном суждении о «непригодности» главнокомандующего 1-й армией и в требованиях заменить его Багратионом.
Присутствие царя в армии еще как-то их сдерживало. Но вот после приказа об оставлении Смоленска недовольные стали вполне открыто говорить «о том, чтобы силой лишить Барклая де Толли командования».
Конечно же у них хватило ума даже не пытаться сделать это, «ведь подобное поползновение было бы равносильно покушению на власть самого императора, ибо только он имел право назначать и смещать командующих армиями».
И все же настал день, когда «заговорщики» направили к Михаилу Богдановичу молодого генерал-майора А. И. Кутайсова с тем, чтобы он передал ему их недовольство и пожелание продолжать оборону Смоленска.
Биограф Барклая С. Ю. Нечаев по этому поводу пишет:
«Выбор был сделан не случайно: Александр, сын Ивана Павловича Кутайсова (турецкого мальчика по имени Кутай, взятого в плен русскими солдатами при штурме Бендер, ставшего камердинером и брадобреем императора Павла, а потом — графом, кавалером ордена Святого Андрея Первозванного), был всеобщим любимцем и к тому же обладал редким красноречием.
И Михаил Богданович искренне любил Кутайсова, а любви его удостаивались весьма немногие».
Короче говоря, Барклай сразу же понял, почему именно Кутайсова прислали к нему, а посему спокойно выслушал молодого человека, а потом столь же спокойно ответил ему:
— Пусть всякий делает свое дело, а я буду делать свое.
Утром 6 (18) августа, в то самое время, когда армия Барклая де Толли, очистив Смоленск, расположилась к северу от Санкт-Петербургского предместья, армия Багратиона шла по Московской дороге в направлении Соловьевой переправы.
По мнению историка войны 1812 года Н. А. Полевого, «отступление было решено Барклаем де Толли еще накануне вечером: он видел невозможность победы, не хотел из Смоленска сделать нового Ульма[13] и решил отступить. Мысль, что отступление должно кончиться в Москве, не приходила ему в голову; он полагал, что по дороге от Смоленска найдется выгодная позиция, где можно остановиться и дать битву; надлежало только обеспечить отступление».
Примерно о том же самом свидетельствует и участник войны князь Н. Б. Голицын:
«Не входило в план главнокомандующего Барклая де Толли дать генерального сражения, но ему необходимо было удержать на несколько времени Смоленск за собою, для того чтобы армия могла совершить свое дальнейшее отступление».
По словам генерала М. И. Богдановича, «Барклай де Толли, видя приготовления неприятеля к устройству мостов на Днепре, не мог долее оставаться на позиции, занятой им к северу от Смоленска, а должен был перевести, как можно поспешнее, свои войска с Петербургской на Московскую дорогу. Для достижения этой цели ему следовало воспользоваться моментом, когда французы еще не успели навести мостов».
В самом деле, если бы Наполеон успел совершить фланговый бросок через Днепр южнее города именно 6 августа, отступление вверенной Барклаю армии стало бы весьма проблематичным. Этот обходной маневр Наполеон поручил вестфальскому корпусу генерала Жюно, и допустить окружения было никак нельзя. Именно поэтому Барклай и решился, довольствуясь кровопролитным уроком, данным противнику в Смоленске, совершить перевод своей армии с Петербургской на Московскую дорогу, на которую она должна была выйти у деревни Лубино, чтобы потом двинуться к Соловьевой переправе и восстановить контакт с ушедшим далеко вперед князем Багратионом.
Это движение Барклая было одним из самых сложных за всю войну, ибо оно совершалось на виду у неприятеля. Потом многие военные историки и теоретики будут утверждать, что оно сделало «величайшую честь» военному таланту Михаила Богдановича, потому что «никогда еще русская армия не подвергалась большей опасности, и из этой сложнейшей ситуации Барклай де Толли вывел ее без потерь».
Отметим, что, отдав все необходимые распоряжения, сам Михаил Богданович, которого, как мы помним, генерал Ермолов несправедливо называл «нетвердым в намерениях» и «робким в ответственности», ушел из Смоленска с последним отрядом.
* * *
Оставление Смоленска привлекло на город «все роды бедствий» и превратило «в жилище ужаса и смерти».
Смоленск пылал. Пламя пожара освещало путь русским войскам. Вместе с войсками покидали город и его жители.
Естественно, князь Багратион был буквально вне себя, и он написал графу Аракчееву следующее, полное праведного возмущения письмо, явно предназначенное для передачи императору Александру:
«Я думаю, что министр уже рапортовал об оставлении Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили. Я, с моей стороны, просил лично его убедительнейшим образом, наконец, и писал, но ничто его не согласило. Я клянусь всей моей честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с пятнадцатью тысячами более тридцати пяти часов и бил их; но он не хотел остаться и четырнадцать часов. Это стыдно, и пятно армии нашей, а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, — неправда; может быть, около четырех тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война! Но зато неприятель потерял бездну».