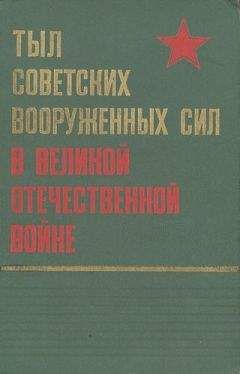В записке говорилось: «Познакомилась с учительницей. Она сообщила о том, что заслать коммуниста в число служащих лагеря нет возможности. ЦК партии в связи с репрессиями режима Антонеску в глубоком подполье. Однако удалось установить, что коммунисты организуют боевые патриотические отряды и готовят их к восстанию. Комитет Единого рабочего фронта призывает народ к борьбе за прекращение войны против Советского Союза. В одном из обращений говорится: «Не дадим ни одной копейки взаймы Антонеску, который продолжает вести проигранную Гитлером войну». Деньги, которые передала мне учительница, собраны рабочими. Б.»
Деньги отдали на хранение Федору Пселу. Эта денежная помощь из–за проволоки вызвала одновременно какое–то смешанное чувство. С одной стороны, нас угнетали фашистские порядки в отношении к пленным в лагерях, хотя румынскую администрацию никак нельзя было сравнить с гитлеровской, а с другой стороны, нас ободряло внимание и забота тех, кто думал о нас, помогал нам. Значит, и среди румынского народа было не мало тех, кто искренне сочувствовал советским людям, верил в торжество добра и высшей справедливости.
Очевидно, к этой категории румынских граждан следует отнести постоянно оказывавшего нам помощь Петро Стево.
Он был нанесен неожиданно.
Раннее утро озарилось яркими красками восхода. Первые дни апреля радовали — ведь это же весна! Над Дунаем розовыми шлейфами висели тучи. Только на болгарской стороне горный хребет еще дремал в синеющей дымке. День предвиделся солнечный, теплый.
Три дня назад прошли первые весенние грозовые дожди, и кое–где еще блестели большие лужи. Люди выходили из бараков, шумно умывались, крепкие на ноги пробегали по кругу плаца.
Я стоял у окна, ожидая Володаренко со сводкой Совинформбюро. Предыдущие сообщения, принятые по нашему приемнику, говорили о том, что отдельные группы Советской Армии вышли к Днестру, Черновцам. Однако положение, складывающееся в Белоруссии, было неясным.
После того как мы отметили освобождение Киева, каждый день теперь приносил радостные вести с востока. Все с нетерпением ждали новых сообщений о победоносном наступлении Советской Армии на запад. Самой последней новостью для нас было освобождение Крыма и выход 2‑го и 3‑го Украинских фронтов к Яссам — Дубоссарам — Тирасполю. Это было как раз то, в чем видели свое спасение люди, томящиеся в фашистских лагерях.
Все ждали новостей. Сводки готовили Володаренко и Шамов. И меня, и членов «семерки» надвигающиеся события волновали не менее, чем остальных узников. Поэтому, встретившись с редактором нашего рукописного журнала И. Д. Денисовым, я попросил его поместить обзор «Конец фашистов неизбежен» в очередной номер. Договорились и о починке обуви для пятой секции.
Тру–уу, тру–уу, тру–у–у… — вдруг заиграла труба.
— Тревога, выходи!
— Строиться! — прокричал старший барака.
Захлопали доски нар, барак наполнился шумом. Люди высыпали на плац.
«Это не поверка, — подумал я. — Тревога в лагере бывает только в исключительных случаях. Значит, что–то случилось».
Возбужденный недобрым предчувствием, я выхватил из–под матраца «Краткий курс истории ВКП(б)» и бросился к заветному уголку, едва не сбив с ног румынского капрала. Через одно из отверстий сунул книгу между полом и балкой.
На плацу быстро строились. Когда умолк сигнал трубы, распахнулись ворота и из комендантского двора показался строй сантинел с винтовками наперевес. Звучно отбивая шаг, отряд вышел на плац и, быстро рассыпавшись, окружил пленных.
— Что–то случилось, — услышал я за спиной приглушенный голос.
— Обыск будет…
— Аресты начнутся, готовьтесь, товарищи, — пошло по рядам.
— А может, тоннели обнаружили? — спросил стоявший рядом Володаренко.
На плацу появился комендант лагеря Попович, начальник сигуранцы, дежурный офицер, мажор. Хазанович встал перед строем. Обычно, когда Попович появлялся в расположении лагеря, он обменивался приветствием со старшим по лагерю, но теперь, не обратив на Хазановича внимания, что–то резко приказал переводчику.
— Подайте команду: колоннам выходить за ворота. — перевел тот.
Взводы колыхнулись, направляясь к выходу. За воротами караул сопровождал пленных до входа на другой двор. В тени барака толпились вооруженные лопатами, кирками, топорами охранники и полицаи.
«Идут ломать бараки, вскрывать тоннели», — мелькнула догадка.
— Полный провал, товарищи, — сказал кто–то вслух.
Между тем колонны пленных перешли на другой двор, представляющий большой грязный огород, на котором размещалось десятка три земляных нор, покрытых сверху камышом. Осенью эти ямы заполнялись овощами, а когда в лагерь поступали новички, то на время карантина их размещали в этих уже пустых ямах, называемых по–румынски бурдеями.
Как только ямы были забиты до отказа пленными, со стороны покинутого лагеря донесся стук топоров и кирок. Солдаты охраны и лагерные фискалы громили жилые бараки.
Трудно передать всю горечь, охватившую нас. Рухнули надежды, пропал огромный труд, потраченный на подготовку тоннелей. Напрашивался вопрос: «Кто же предал? Где этот подлец? Ведь он жил где–то рядом, спал вместе с нами, «переживал» горечь нашей судьбы, поддакивал, соглашался с товарищами и… шпионил, выполняя задание сигуранцы!»
Конечно, вскрывать и закрывать доски пола не везде и не всегда удавалось без посторонних. Но кому из заключенных это мешало? Страшно и непростительно было то, что враг ходил рядом с нами.
Люди, как опущенные в воду, сдавленные бедой, поникли, замкнулись в себе. Горечь была всеобщей, погибло то, что казалось уже близким, доступным, радостным. И чтобы погасить надежду, свет завтрашнего дня, убить в нас силу и веру, потребовалось всего не более получаса. Вскоре на месте бараков возвышались лишь горы бревен и досок.
Но на войне как на войне, стоит ли поддаваться унынию из–за отдельных неудач? Люди, закаленные в боях, испытавшие весь ужас фашистских застенков, не пали духом, они еще будут бороться, пойдут на жертвы, если это потребуется.
Бурдеи темные, вымоченные зимними дождями, были лишены элементарного сходства с жильем. Люди хлюпали по воде, обваливали рыхлые стены, ища сухое место, чтобы присесть, тихо переговаривались. Но даже в такой, сдавившей сердце обстановке они шутили, успокаивали ослабших, старались не думать о только что поразившей их неудаче.
— Ничего, товарищи, переживем и это испытание. Вот погонят на соляные копи, а там куда тяжелей. Тренировочка–то и пригодится.
Шлепая по жиже, ко мне подошел Шамов.
— Ну как? — спросил он.
— Это я должен спросить тебя как «главного строителя».
Шамов посмотрел на маленький просвет в крыше, крепко выругался и сплюнул.
— Бедному жениться и ночь коротка, — проговорил он и стал закуривать.
— Начнутся допросы, аресты… А потом опять будем готовиться к побегу, — заметил я.
— Ты что, думаешь две жизни жить? — иронически ответил Шамов. — Ты вот скажи, как будем расхлебывать эту кашу?
Меня охватила тревожная мысль: как будут держать себя на допросах мои товарищи, выдержат ли жестокую расправу, которая, несомненно, обрушится на военнопленных.
Большая часть узников провела ночь на ногах. Мы не получили ни воды, ни мамалыги. Но люди молча ждали неизбежного. Шевченко сидел на крохотном выступе стены и глядел в одну точку.
— О чем думаешь, дружище? — подошел я.
Оторвавшись от своих мыслей, он качнул головой и тихо заговорил:
— Меня страшит не сегодняшнее и даже не смерть в лагере. Я сейчас думаю о том, как встретят на Родине тех, кто сумеет возвратиться живым? — Шевченко откашлялся, выпрямился и уже громче продолжал: — Я вспомнил твои слова: «Реагировать спокойно, действовать решительно…» И связал это с тем, что думают некоторые о нашей работе. Один «деятель» третьего дня мне заявил, что Рындин слишком увлекся политработой, варит кашу более года, а кому это нужно? Посмотрим, как он в случае провала будет ее расхлебывать!
— Знаю. Это слова Маслова. Но люди понимают, что в условиях плена нельзя надеяться, что все пройдет, как намечалось…
Я видел еще более пожелтевшие щеки товарища, его вздрагивающие пальцы рук и понимал, о чем он думал эти долгие часы неизвестности и отчаяния. Чтобы успокоить его, ответил:
— Нас здесь тысячи, попали мы в лапы врага не по доброму желанию. Большинство сохранило боевой дух, и если рвется к проволоке, то с одной целью: вооружиться и бить врага до полной победы.
Шевченко, раскурив сигарету, склонился к моему лицу:
— Мы с тобой собираемся после войны, засучив рукава, восстанавливать разрушенное и строить новое. Я вспоминаю двадцатые годы, сплошную коллективизацию, первые пятилетки. Нас тогда называли бойцами партии… А теперь, если мы вернемся без партбилета, кем нас назовут?