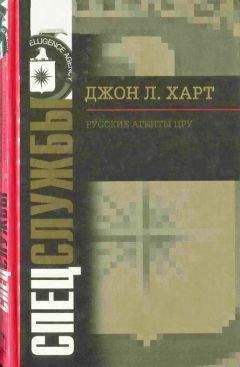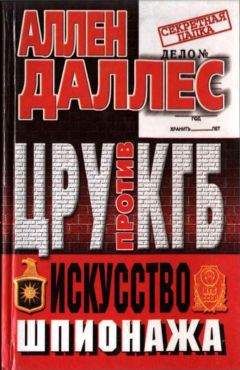История с Носенко принципиально отличается от двух других, приведенных выше, — Петра Попова и Олега Пеньковского, поскольку этих двоих считали искренними и никогда не подозревали в работе против Соединенных Штатов. Кроме того, Носенко был совершенно иным человеком. В частности, в его натуре почти не было двойственности, присущей двум другим и позволявшей им довольно длительное время вести секретную подрывную деятельность против Советского Союза, оставаясь внешне лояльными и к нему. Носенко был человеком заурядным, и, когда мы с ним наконец ветретились, я заметил, что, несмотря на довольно хорошее знание английского языка, он редко пользовали ся в своей речи абстрактными понятиями, даже такими простыми, как «добро» и «зло». Годы одиночного заключения, казалось, настолько сузили его умственный и психический горизонты, что от жизни он желал только одного — минимально пристойного к себе отношения.
От других случаев предательства Носенко отличался и тем, что у него никогда не было явного желания стать шпионом. Скорее, совсем наоборот. Ценная информация, предоставленная им в период первого пребывания в Западной Европе, должна была всего лишь послужить гарантией его полезности нам, американцам, и склонить нас к выплате ему денег за эту информацию. Оказавшись на крючке, он поставил перед собой единственную долгосрочную задачу — окончательно порвать с Советским Союзом и как можно скорее обосноваться в свободном мире. Таким образом, попав в Женеву во второй раз в январе 1964 года, Носенко был уже готов остаться на Западе, поэтому и перебежал открыто, попросив политическое убежище в Соединенных Штатах.
Далее в книге следует уделить некоторое внимание настроениям, господствующим в штаб-квартире ЦРУ в момент первого появления Носенко в июне 1962 года. Оценивая важное значение этого факта и целесообразность продолжения его контактов с ЦРУ, Бэгли и Кисевалтер не приняли во внимание следующие два существенных обстоятельства: подозрительности Джеймса Энглтона (грозной тучей нависающей над всем, что хоть в какой-то мере касалось Советского Союза) и безыскусности большинства сотрудников из его ближайшего окружения. В частности, один весьма высокопоставленный сотрудник отзывался о заключениях Бэгли по поводу Носенко с крайним презрением. Остановимся на мгновение на доминирующем влиянии Энглтона как начальника контрразведки ЦРУ.
Именно Джеймс Энглтон по неосторожности доверил секреты советскому агенту Киму Филби, и о Джеймсе необходимо рассказать более подробно. В 1948 году, когда я впервые встретился с ним в Риме, он казался обаятельнейшим человеком. Его юность частично прошла в Италии, после чего Энглтон окончил престижную частную школу в Англии. Во время и после Второй мировой войны он служил в Управлении стратегических служб, в появившейся вместо этого управления Центральной разведывательной группе, а позднее — в ЦРУ Возглавив после окончания военных действий разведывательную деятельность США в Риме, Энглтон впервые столкнулся с энергичными попытками коммунистов захватить власть в Италии. Понятно, что глубокая подозрительность Джеймса к любой их активности где бы то ни было в мире происходила именно из этого опыта.
Когда его перевели из Европы на службу в Вашингтон, Энглтон быстро приобрел репутацию интеллектуала, детально знакомого с коммунистической активностью. Его рассказы о кознях советских служб, сопровождаемые ссылками на русских, чьи фамилии ничего не означали для большинства из его высокопоставленных коллег,, принимались за чистую монету, поскольку ни у кого из них не было основания оспаривать авторитет Энглтона. С другой стороны, по всеобщему признанию, он был весьма неорганизован; ящик его стола являлся своего рода бездонным колодцем, извлечь из которого что-либо можно было лишь с большим трудом.
Наибольшее влияние Энглтона пришлось на те двадцать лет, которые он возглавлял контрразведку ЦРУ — укутанную завесой глубокой тайны организацию, с переменным успехом выполняющую сложную задачу выявления шпионов из Советского Союза и стран восточного блока, подозреваемых в деятельности против Соединенных Штатов. Работа в качестве главы этой организации была настолько сложной и напряженной, что требовала самого лучшего руководителя, который только мог найтись в ЦРУ. Даже если Энглтон в свое время и соответствовал вышеупомянутым критериям, то к концу 1950-х годов это было уже далеко не так. Тщательно культивируемый имидж, разумеется, сохранился, но сам человек — нет. Возможно, из-за своего вошедшего в легенду пьянства беспорядочная память Энглтона превратилась к тому времени в бессистемную свалку малозначащих фактов, в большинстве случаев не имеющих никакого отношения к обсуждаемым в ряде случаев вопросам.
В 1976 году, когда мы оба были уже в отставке, меня вновь пригласили на службу в ЦРУ специально для расследования дела Носенко. В период активной стадии этого процесса Энглтон сыграл весьма важную роль, убедив большинство своих коллег и начальство, что Носенко является «агентам дезинформации», посланным КГБ для дискредитации правительства Соединенных Штатов. Утверждение было весьма ответственным и спорным, и Энглтон знал, что я не был с этим согласен. Когда я пригласил его в мой временный офис в штаб-квартире ЦРУ, он, однако, охотно согласился обсуждать этот вопрос.
Наша беседа с Энглтоном, начавшаяся в час дня, отняла более четырех часов и была полностью записана на магнитную ленту. На следующий день, получив более сорока страниц распечатки беседы, я пришел в ужас, впервые ясно осознав, насколько дезорганизованными были его мысли и сама речь. Должен честно признаться, что обсуждал эту тему с Энглтоном гораздо раньше и даже тогда его тезис о «дезинформации» в отношении Носенко казался мне неубедительным. Объясняю, почему я уделяю Энглтону столько внимания в этой книге. Он, более чем кто-либо другой, повлиял на атмосферу, в которой выносились суждения о Носенко в период установления с ним контакта в июне 1962 года и его окончательного перехода на нашу сторону в январе 1964 года.
Мыслительные способности Энглтона, не слишком развитые от природы, были заблокированы еще сильнее в 1961 году под влиянием бывшего майора КГБ Анатолия Михайловича Голицына. После перехода Голицына на нашу сторону Энглтон сразу принял его в качестве источника информации и советника своего ведомства, несмотря на отзыв психоаналитика ЦРУ о советском перебежчике как о «параноике». Этот вывод о серьезном психическом отклонении Голицына было сразу оспорен, так как психоаналитиков в ЦРУ никогда не воспринимали всерьез. Как бы то ни, было, Голицын был принят Энглтоном с распростертыми объятиями и имел значительное влияние на многих сотрудников управления.
Остановимся более подробно на интеллектуальных и эмоциональных особенностях этого странного русского. Начнем с того, что отношение Голицына к перебежавшему Носенко было отнюдь небеспристрастным. Голицын был твердо уверен, что Носенко был послан КГБ со специальной миссией дискредитировать либо даже убить его самого. Опираясь на свои знания КГБ, Голицын был убежден в вездесущей и злобной силе советских спецслужб, направленной на уничтожение Соединенных Штатов и их западных союзников. Основой этой угрозы являлась, по его мнению, демонстрация мнимого раскола между Советским Союзом и коммунистическим Китаем, в котором Голицын видел простую уловку, разработанную в КГБ с целью сбить Запад с толку. Я до сих пор с удивлением и сожалением вспоминаю, что сам Энглтон безоговорочно принимал эту фантастическую идею. Другой любимый тезис Голицына: чтобы защититься от его разоблачений, КГБ предпримет ответные действия, прислав в Соединенные Штаты своих двойных агентов, которые по прибытии в США предоставят американцам «дезинформацию», призванную скомпрометировать самого Голицына. Если бы подобные мысли были приняты другими столь же безоговорочно, как Энглтоном, тогда главным советником правительства Соединенных Штатов по всем советским вопросам стал бы только один человек — сам Голицын.
Несмотря на все возрастающее скептическое отношение к этому сотрудников ЦРУ, Энглтон безоговорочно принял для себя идею советского заговора по дискредитации Голицына. Поэтому неудивительно, что Энглтон сразу подверг сомнению положительную оценку, сделанную Бэгли по поводу предложения Носенко в Женеве. Позднее Энглтон мне сказал: «После получения первого известия [от Бэгли]… мы созвали большое совещание воскресным утром. Бэгли казалось, что он поймал самую большую рыбу в своей жизни. Думаю, что это было действительно так. Однако все, что я от него слышал, находилось в разительном противоречии с услышанным ранее [от Голицына]».
После встречи с Носенко в июле 1962 года и ознакомлением с отчетом Бэгли в штаб-квартире ЦРУ, Энглтон решил заставить своего более молодого коллегу изменить мнение, воспользовавшись для этой цели выписками и цитатами из записок Голицына, ставших к тому времени для сотрудников ЦРУ своего рода «заповедями Моисея». Авторитет Энглтона заставил Бэгли изменить свои предложения по работе с перебежчиком Носенко. Более того, по настоянию Энглтона в течение нескольких последующих лет все сообщения Носенко подвергались окончательной оценке у Голицына (несмотря на его профессиональный диагноз параноика). Результатом принятия Энглтоном на вооружение «доктрины Голицына» было заражение «слабомыслием» до того времени здорового интеллектуального коллектива многих подразделений ЦРУ. Приведу один из примеров подобного искаженного мышления, который я позднее использовал, давая показания комиссии конгресса в сентябре 1978 года: «Из этого следует, что когда [Советы] утверждают, что Носенко говорит правду, это накладывает отпечаток фальшивости [на источник подобного заявления]. Это можно считать явным доказательством нахождения [Носенко] под контролем КГБ. В противном случае, подтверждать правдивость информации Носенко [Советы] не стали бы».