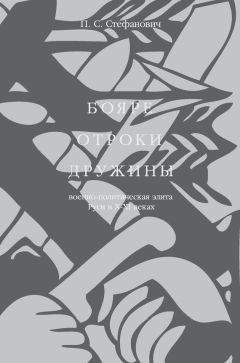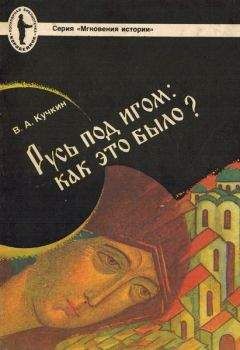В каком-то смысле выделение знати как «господствующего класса» в советской историографии соответствовало общеевропейской тенденции в медиевистике. Выше уже было отмечено, что как раз в середине XX в. в немецкой медиевистике была предложена концепция, по-новому объяснявшая происхождение социального неравенства и властных институтов – теория «господства знати» (Adelsherrschaft). Разумеется, соответствие теорий «русского феодализма» и Adelsherrschaft было весьма относительным – лишь постольку, поскольку шла речь вообще о господстве. Могущество знати и его сущность эти теории представляли совсем по-разному. Немецкие медиевисты середины XX в., работая ещё в рамках традиционной немецкой юридической школы (Verfassungsgeschichte), выводили господство знати из древних архаических корней, увязывая его с «прирождёнными» правами, харизмой и т. п.[32] Советские историки, встав на позиции «исторического материализма», основу могущества «господствующего класса» видели в землевладении. Зарождение боярского вотчинного (сеньориального) землевладения на Руси относилось к самым древним временам (VIII–X вв.), и с ним связывалось образование государства. Этих древних бояр-землевладельцев обозначали терминами, принятыми в историографии XIX – начала XX в., – «земские бояре» или «местная знать».
Другим важным тезисом концепции Грекова-Юшкова было признание «прогрессивной» роли за знатью лишь на начальном этапе становления государства, на Руси– до конца XI – середины XII в. В последующий период русской истории её роль оценивалась уже только в негативном ключе – как деструктивная, реакционная, эксплуататорская, антицентрализаторская и т. д. Такие оценки получили особенное развитие в работах Б. А. Рыбакова. По его мнению, в XI–XII вв. происходящее из племенной знати «местное боярство» «явственно становится заметной и самой крупной силой в стране», охваченной «феодальной стихией». Именно интересы боярства были главным фактором в установлении политической («феодальной») раздробленности на Руси в начале – середине XII в. До этого времени между князьями, олицетворявшими государственное начало, и боярством был «мир», а уже сыновья Юрия Долгорукого, Изяслава Мстиславича и Ярослава Осмомысла «бились не на живот, а на смерть с боярством своей земли», опираясь на «младшую дружину» (дворян) и на города[33].
Вместе с окостенением и идеологизацией концепции Грекова-Юшкова такого рода оценки стали преобладать, и изучение «класса феодалов» в советской историографии не поощрялось и ограничивалось источниковедческими проблемами. В то же время ещё в рамках этой историографии наметился отход от некоторых принципиальных положений теории «феодальной формации», и, в частности, большинство учёных фактически отказались от тезиса о раннем зарождении землевладения сеньориального типа на Руси[34].
В историографии последних десятилетий особняком стоит концепция «общинного» строя Древней Руси, которую развивают И. Я. Фроянов и его ученики и которая вообще не признаёт в домонгольской Руси знати как особого социального слоя[35]. В этой концепции легко различимы отголоски «общинно-вечевой» теории второй половины XIX в. Если не считать работ этого «направления», в остальных явно прослеживается возврат к идеям Преснякова и других представителей «государственной школы», которые не представляли себе элиты в Древней Руси вне «дружинно-служилой» организации.
А. А. Горский не признаёт никакой знати, кроме служилой; бояре для него – только верхушка «дружины» («старшая дружина»). С Пресняковым он сходится в том, что лишь в XII в. знать приобретает заметную политическую самостоятельность, но расходятся они в том, как понимать основы этой самостоятельности: Пресняков указывал на связь «влиятельного боярского класса» с «городской вечевой стихией», а Горский считает основой боярского могущества развитие вотчинного землевладения[36]. В последнем пункте с Горским солидарен М. Б. Свердлов, который тоже видит причину образования боярского «привилегированного сословия» в XII в. в развитии его землевладения, хотя в отличие от Горского он допускает существование в X–XI вв. некоей «местной знати», помимо «княжих мужей»[37]. П. П. Толочко рассматривает знать не столько как социальный слой, сколько как элемент государственного управления, выстроенного по вертикали во главе с князем[38].
Акцент, который Горский и Свердлов делают на землевладении знати как основе её самостоятельности, соединяет их с концепцией феодализма в трактовке Грекова и Юшкова, но решительно разрывает с концепцией «торговых городов» Ключевского, которую учитывал в своих построениях Пресняков. Между тем, хотя теория Ключевского о «торгово-промышленном» становлении древнерусского государства, конечно, в каких-то пунктах устарела, в своей сути она оказывается созвучна современным исследованиям, особенно археологическим, которые подчёркивают значение торговли как важнейшего фактора в становлении этого государства[39].
Концепция «княжого права» Преснякова– безусловно, яркая и интересная, но она принадлежит своему времени (подробнее об этом будет сказано в главе I). Подчёркивая роль дружины в древнейшее время на Руси, Пресняков отталкивался, в основном, от современных ему работ немецких и французских медиевистов (конца XIX – начала XX в.). Многие тезисы и выводы этих работ были позднее пересмотрены. В современной западноевропейской историографии дружина, если вообще и рассматривается как инструмент господства, то скорее не правителя, а вообще знатных людей (как элемент «господства знати»). Многие авторы вслед Карамзину и Преснякову сопоставляют классическое описание германской дружины у Тацита и сообщения древнерусских летописей о «дружинах» князей Руси XI–XII вв. Какое-то сходство, допустим, можно разглядеть, но всё-таки возникает большое сомнение, можно ли вести речь об одном институте. Обращение к английской, немецкой, скандинавской, польской и чешской историографиям убеждает, что сравнение скорее надо вести не с Тацитом, а с синхронными раннегосударственными образованиями Центральной и Северной Европы IX–XII вв. (на этом делается акцент в главе III данной книги).
В современных русскоязычных исследованиях, так или иначе затрагивающих положение и роль знати/элиты в раннем государстве Руси, вообще явно недостаточно учитывается европейская историография, в которой отразились и результаты конкретно-исторических исследований, и новые подходы. В интересной книге немецкого историка X. Рюсса[40] предпринята попытка применить некоторые новые взгляды к изучению древнерусской знати, но в работе делается акцент на более поздний период (XIV–XVI вв.) и она, к сожалению, мало известна русскоязычным авторам.
Настоящая работа нацелена как раз на то, чтобы вписать, хотя бы отчасти и в некоторых аспектах, русскоязычную историографию XVIII – начала XXI в., посвященную военно-политической элите Древней Руси, в контекст развития европейской медиевистики. Выполнение этой задачи тесно связано со стремлением, о котором говорилось выше, прояснить некоторые базовые понятия, употребляемые в этой историографии (прежде всего, понятие дружина). Кроме того, в работе, естественно, будут сформулированы ответы на обозначенные дискуссионные вопросы– кем, собственно, были бояре древнейшего времени, следует ли различать в их среде неких «служилых» и «земских», как они соотносились с другими общественными элементами, состоящими в элите или причастными к ней, прежде всего, теми, которые были тесно связаны с княжеской властью и имели выдающееся военное значение.
* * *
Несколько слов о методах исследования и об источниках, на которые оно опирается.
Работа построена на анализе текстов. Её общие историко-«социологические» задачи предполагают довольно широкий охват текстов разного происхождения, потому что при отсутствии документов, в которых более или менее систематически, а особенно с правовой точки зрения, отражена социальная иерархия, историк вынужден следовать просто за упоминаниями тех или иных социальных категорий во всех доступных источниках. В каждом случае требуется не только тщательная источниковедческая оценка того или иного упоминания, возникшего при определённых условиях и поставленного в определённый контекст внутри соответствующего памятника. Необходимо также отдавать себе отчёт, что действительность, отражённая в этих свидетельствах, происходящих из глубокой древности, была чужда той рационализации и систематичности (и в общем её осмыслении, и в терминологии), к какой мы привыкли или какую ожидаем в современном обществе. Невозможно представить себе эту действительность, если не учитывать не только сохранность и происхождение того или иного текста, но и его литературные особенности, взгляды и мировосприятие его автора и прочие многочисленные обстоятельства его создания и бытования в социально-культурной среде.