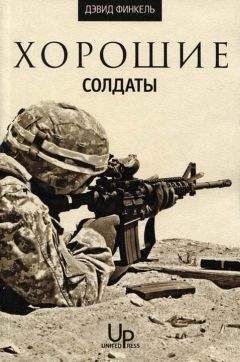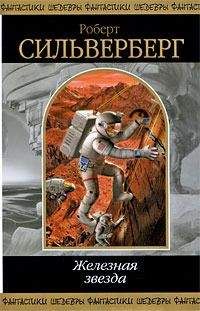И вот наконец настало время идти к вертолету, и он двинулся по коридору. Новость уже знала вся рота, и один из солдат, увидев Шумана, подошел к нему.
— Я тебя до сортира провожу, мне как раз приспичило, — сказал солдат, и этими словами Шуману пришлось довольствоваться как последними — последними, какие он услышал от ребят из 2-16 под конец своего пребывания в Ираке.
Он шел через ПОБ, и ему было нехорошо — болел живот, подступала тошнота. У посадочной площадки выстроились солдаты из других батальонов, и, когда приземлился вертолет, в него впустили всех, кроме Шумана. Он не понял почему.
— Твой следующий, — сказали ему, и, когда через несколько минут сел второй вертолет, ему все стало ясно. На вертолете был нарисован большой красный крест. Он перевозил раненых и убитых.
Вот что он, Адам Шуман, теперь собой представлял.
Он был ранен. Убит. Он закончился.
— Что-нибудь не так? — спросила мужа Лора Каммингз.
— Нет, все нормально. Просто захотелось посмотреть на грозу, — сказал Каммингз. Он тоже был сейчас дома, сидел на передней веранде после того, как проснулся в темноте от грохота взрывов. Нет, это всего-навсего гром, сообразил он и вышел посмотреть на грозу — первую в его жизни за месяцы и месяцы. Он видел, как молнии вспыхивают все ближе. Он почувствовал, что воздух стал влажным. Дождь, когда он обрушился на крышу, когда потекло из водосточных труб, когда вода стала пропитывать лужайку Каммингза и омывать его улицу, зазвучал у него в ушах как музыка, и, слушая, он задумался, который теперь час в Ираке. Два часа дня? Три часа дня? Случилось там что-нибудь? Маловероятно. Что-нибудь плохое? Что-нибудь хорошее?
— Надо достать зонты для девочек, — сказала Лора, и он задумался, где сейчас хранятся зонты — там же, где до его отъезда, или в другом месте?
В кофейне «Радинас», куда он любил ходить, один из завсегдатаев хлопнул его по спине и жестом подозвал своего друга.
— Иди сюда, познакомься с Брентом Каммингзом, — сказал он. — Только что из Ирака. Герой войны.
Перед футбольным матчем Канзасского университета, когда он, одетый, как всегда, в цвета университета и его команды, стоял на парковочной площадке перед стадионом и думал, будет ли он когда-нибудь, как раньше, переживать футбольную игру как битву не на жизнь, а на смерть, люди задавали ему вопросы.
— Как там дела, в Ираке?
— Было нелегко — но мы движемся к цели, — ответил он.
— Не зря мы туда полезли?
— Я считаю, что не зря, — сказал он.
— Вон, его можешь спросить, — услышал он слова мужчины, обращенные к женщине; она затем спросила его:
— Буш — хороший человек?
Иногда, глядя на своих дочерей, он вспоминал день, когда ему помахала иракская девочка и человек, стоявший рядом с ней, увидел это и сильно ударил ее по лицу. Он схватил этого человека, назвал его трусом и сказал, что, если он еще раз так сделает, его арестуют или убьют.
— Приятно было это сказать, — признался он в тот день, сразу после случившегося. — Приятно было выдернуть его с улицы перед всем народом. Увидеть страх в его глазах. Да, приятно.
Теперь он подолгу сидел на веранде и слушал, как лужайку орошает система автоматического полива, — Лора установила ее в его отсутствие и написала ему об этом по электронной почте.
Он подолгу сидел в гостиной и слушал, как дочери играют на пианино, — Лора писала ему в Ирак, что хочет его купить.
В кофейне «Радинас» кто-то обронил: «Мы видели фото некоторых солдат в газете», и он понимал, о чем речь, и хотел, чтобы заговорили о чем-нибудь другом. Вскоре так и произошло. Опять начали говорить про футбол, про отпуск, про погоду и, в тысячный раз, про то, как хорош здешний кофе, и он был этому рад.
Однажды он спросил Лору:
— Сколько ты хочешь знать?
Они были в спальне — только что вернулись с поминальной службы в церкви Форт-Райли, где он произнес слово в память Достера, погибшего через несколько часов после того, как Каммингз вылетел из Рустамии в отпуск.
— В любом случае, когда встанете, чтобы начать говорить, не смотрите на его родных, — предупредил Каммингза священник, заботясь о его самообладании, и он не смотрел, но не слышать их он не мог, как и все, кто был в церкви, включая нескольких раненых солдат 2-16, которых отправили обратно в Канзас. Здесь был, например, солдат, которого, раненного в грудь у бензозаправки, перетащила в безопасное место переводчица Рейчел. Был солдат, раненный в шею, — он, показалось Каммингзу, беспрерывно прокручивал в памяти прошлое. Был солдат, который ехал в «хамви» с Каджиматом, — у него постепенно сохла рука. Всего их было пятеро, и после службы Каммингз подумал, что хорошо бы встретиться с ребятами еще раз — может быть, пригласить их на ланч, — а потом они с Лорой поехали домой, в единственное место на свете, где он спокойно мог опустить ногу половиной ступни на ковер, другой половиной на пол.
— Как я выступил? — спросил он, вешая в шкаф форму.
— Очень хорошо, — ответила Лора, сидя на краю кровати и глядя на него, и вдруг он расплакался и стал повторять: «Это так глупо, Лора, так глупо, так глупо…», чувствуя себя так, словно грозовой дождь, на который он смотрел в первую ночь, теперь низвергался сквозь него.
После этого ему полегчало. Он ездил кататься на велосипеде. Помогал дочкам собираться в школу. Пил самое лучшее пиво, что когда-либо пробовал. Ездил с Лорой в спортивный зал. Сидел на веранде с собаками. Пошел в «Радинас» и увидел человека с большой бородой, который и сейчас, как всегда в прошлом, сидел в углу и читал роман, как будто не было в мире ничего серьезного, никаких забот.
— Мать честная, это так здорово было — просто побыть дома, — сказал он, вернувшись в Багдад и собираясь принять амбиен, чтобы уснуть. — Лучшее время в моей жизни.
Он так и не повидался снова с ранеными солдатами, хотя намерение такое было.
Он собирался, кроме того, побывать в Форт-Райли на кладбище у могилы того единственного солдата 2-16, которого там похоронили. Приехав обратно на войну, он задался вопросом, что ему помешало.
Так или иначе — не побывал.
В могиле покоился Джоэл Марри, один из тех троих, что погибли 4 сентября; его домом было теперь старое кладбище, где тесно лежали мертвые солдаты, участники полудюжины войн. 11 декабря его могила, как и все кладбище, покрылась льдом во время сильнейшей бури с ледяным дождем, которая, двигаясь от Великих Равнин к Среднему Западу, пронеслась над Канзасом. Уже сообщили о семнадцати погибших. Сотни тысяч остались без электричества. Повсюду под тяжестью льда падали деревья. На кладбище от дерева отломилась огромная ветка и обрушилась на несколько плит, едва не задев надгробие Марри. Ветки падали по всему Форт-Райли, включая двор перед домом недалеко от кладбища, где у двери висела табличка: «Подп. Козларич» и где лежавшая на крыльце утренняя газета с заметкой о двоих последних погибших на иракской войне была погребена под слоем льда.
Стефани Козларич в конце концов эту газету достала, но пока что ей было не до газеты.
— Хорошо, в следующий раз куплю блинчики «Джунгли», — сказала она Алли, уже восьмилетней, которой надоели вафли «Эгго». — Хочешь еще сиропа? — спросила она Джейкоба, уже шестилетнего. — Ты собираешься завтракать, а? — спросила она Гаррета, уже четырехлетнего, который бегал по дому в футболке и трусах и кричал:
— Я не могу остановиться!
В раковине до сих пор лежали остатки пиццы от вчерашнего ужина. На разделочном столе — карточки для обучения чтению и счету. Повсюду — детали «Лего». Стефани открыла холодильник, оттуда вывалился пакет с апельсиновым соком, и вафли «Эгго» почему-то посыпались после этого из коробки и заскользили по полу.
— Вафельный снегопад! — завопил Джейкоб, а Стефани, которой после отъезда мужа в Ирак исполнилось сорок, бросилась их подбирать.
Это был дом солдата в подлинном его виде — дом, каким он бывает, когда солдат не смотрит с веранды на грозу, не делает предложение, не вырубается на диване, не покупает пикап, а воюет в Ираке. Дом, каким он был не в те восемнадцать дней, на которые Козларич приехал в отпуск, а в те четыреста дней, что он отсутствовал.
Это были коробки с рождественскими украшениями, которые Стефани стащила с чердака, — теперь все это надо было развешивать. Это был растущий слой льда на тротуаре и ступеньках, и куда, черт возьми, запропастился большой пакет с антигололедным реагентом, который они купили в прошлом году? Это было мигающее электричество во время бури, и где, спрашивается, пальчиковые батарейки для фонарика на случай, если света совсем не будет? Большие батарейки — вот они. Мизинчиковые — вот они. Но где пальчиковые? Фотография Ральфа в рамочке, стоявшая на холодильнике, тоже нуждалась в батарейках, чтобы питать датчик движения, подключенный к запоминающему устройству, на которое он, чтобы дети не забывали голос отца, записал обращенные к ним слова. «Привет. Что ты тут делаешь? А я тебя ви-и-ижу», — произнес он под запись, стараясь, чтобы звучало посмешнее. Стефани сказала, что первоначальное обращение к детям, где Ральф говорил, как он по ним скучает, пожалуй, слишком печальное. И датчик делал свое дело. Козларич вылетел в Ирак, дети, проводив его, вернулись домой, вошли в кухню и услышали его голос: «А я тебя ви-и-ижу». Вышли и еще раз вошли. «А я тебя ви-и-ижу». Проснулись на следующее утро и отправились в кухню завтракать. «А я тебя ви-и-ижу». И так каждый раз каждое утро. Входит Стефани выпить кофе: «А я тебя ви-и-ижу». Идет наверх одеться и возвращается в кухню: «А я тебя ви-и-ижу». Идет за почтой, потом обратно: «А я тебя ви-и-ижу». Она начала пригибаться, входя в кухню. И все равно: «А я тебя ви-и-ижу». Что она могла сделать? Она не могла поставить фотографию вверх ногами. Не могла ни вынуть батарейки, ни прикрыть датчик: что бы она ни сделала, это выглядело бы как неуважение к обстоятельствам, из-за которых была куплена рамка и записан текст. «А я тебя ви-и-ижу». «А я тебя ви-и-ижу». «А я тебя ви-и-ижу». «А я тебя ви-и-ижу». Однажды батарейки кончились, и она собиралась их заменить, собиралась, но вот уже прошли месяцы, и там, вероятно, так или иначе, нужны пальчиковые, а их, если они найдутся, лучше вставить в фонарик, потому что погода делается все хуже. Упала отломившаяся ветка. «Надо, наверно, переставить машину», — сказала она. Но на улице ужас что творилось. Упала еще одна ветка, еще одна. «Пойду переставлю машину», — сказала она.