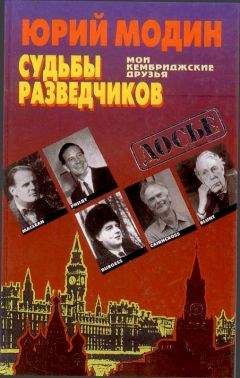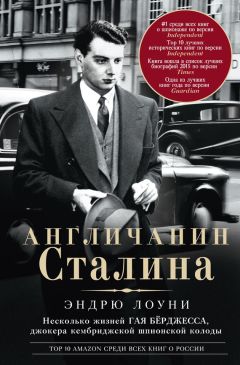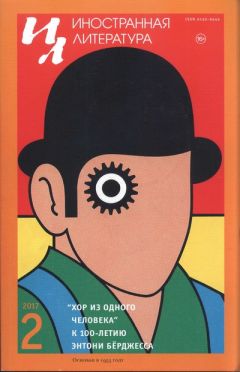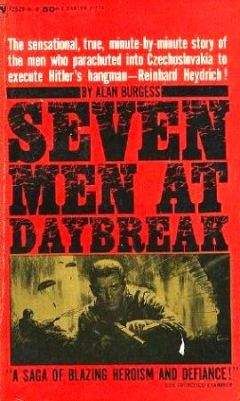В декабре люди начали умирать. Наше начальство приняло решение об эвакуации училища. Фронту нужны были инженеры и, чтобы сохранить ценные кадры, следовало вывезти нас из Ленинграда в более безопасное место. Самым трудным оказалось найти способ выбраться из блокады. Единственный путь — по замерзшей Ладоге, так называемой «Дороге жизни».
Мы были первыми, кто попытался пересечь озеро в сторону Большой земли. Следовало пройти около пятидесяти километров пешком, а мороз был так крепок, что замерзала водка. Мы оделись как можно теплее, нацепив на себя свитера или жакеты, словом, все, что смогли раздобыть. Каждый тащил тяжелый рюкзак. Ночью цепочкой один за другим вступили на лед. Впереди не видно ни зги, кроме крошечного огонька бакена, зажженного специально для нас. Нужно было идти прямо на этот огонек и ни в коем случае не останавливаться.
Немцы скоро догадались, что какая-то колонна пытается пересечь озеро. Не прошло и часа, как первый снаряд разорвался на льду неподалеку от нас. Любопытно отметить, что мы так долго мучались от голода и настолько ослабли, что оказались не в состоянии даже испугаться.
Я окликнул товарищей. Что будем делать? Сгруппироваться теснее или наоборот рассыпаться? Выбрали второе и продолжали идти вперед на расстоянии примерно десяти метров друг от друга. Мне казалось, что я совсем один во всем мире. Промежутки между разрывами снарядов стали значительно короче. Из-под содрогавшегося льда взлетали снопы огня, раздавались приглушенные взрывы, воздух звенел от летящей шрапнели. Ледяной покров мог разрушиться под нашими ногами в любой момент. Сквозь мрак я разглядел неподалеку какой-то колеблющийся свет — это была освещенная луной огромная полынья, образовавшаяся от взрыва снаряда. Я предупредил товарищей, и мы обошли полынью далеко стороной. Приходилось идти очень осторожно, прощупывая каждый шаг. Озерки воды попадались все чаще и чаще. Мы пробирались мимо них, словно по огромному лабиринту, обходя промоины длиной в несколько километров. Немецкая артиллерия продолжала поливать нас своим огнем. По счастью, стреляла она наугад. Иногда снаряд падал на расстоянии брошенного камня, иногда — на дальнем берегу озера. Немцы приняли дьявольскую тактику: поскольку они не могли видеть нас в темноте, то решили пробить пушечным огнем нечто вроде канала во льду озера, который должен был отрезать нас от цели — противоположного берега. Многие из нас заблудились в темноте и должно быть погибли, но большая часть курсантов все же добралась до спасительной суши.
В 1985 году я ездил в Ленинград, чтобы отдать долг памяти этому необычному эпизоду в моей жизни. Я узнал место, с которого мы начали свой марш по ледовой дороге. Долго и пристально смотрел на гладь озера… На душе было тяжело.
Когда мы вышли на берег, сил уже никаких не оставалось. Но не могло быть и речи об отдыхе. Начальник училища отдал строгий приказ выйти к железной дороге, а дальше, если удастся, сесть на поезд и ехать до места сбора в Тихвине. Однако никаких поездов мы даже не увидели. Небольшой группой из четырех человек потащились через пустые поля, покрытые глубоким снегом. Идти было трудно. Я не раз падал плашмя, погрузившись лицом в снег. А дотащившись до пригородов Тихвина, мы выяснили, что его уже занял враг. Пришлось идти в обход, продвигаясь медленно и осторожно — ведь мы не знали местности и постоянно рисковали нарваться на немецкий дозор.
Зима в тот год стояла неимоверно холодная, и я до сих пор не понимаю, как мы остались живы. Есть было нечего. Я сговорился со своим другом Юрием Проскуряковым, моим ровесником, и мы вдвоем кое-как доковыляли до пастушьей избушки в глухой деревне. Жители встретили нас радушно. Им самим жилось голодно, и все же они дали нам несколько картофелин. Слегка подкрепившись, мы двинулись дальше. Блуждали по Ленинградскому району и, чтобы не умереть с голоду, еще не раз обращались за помощью к крестьянам. Без преувеличения можно сказать, что мы обязаны им жизнью.
Наконец добрели до какой-то станции — не могу сейчас вспомнить ее названия — залезли в первый попавшийся телячий вагон, свалились замертво на солому и беспробудно спали до самого Ярославля. Здесь мы нашли почти всех наших курсантов и преподавателей. Местный совет расселил нас в некоем подобии казарм и хлебосольно накормил кашей. Мы так долго не ели досыта, что набросились на еду, как звери. Мы знали, что нельзя есть сразу так много, но удержаться не могли. Голод — страдание ужасное.
В Ярославле мы учились до июля 1942 года. Здесь мне впервые предложили вступить в партию, но я отказался, сославшись на молодость.
Жили бедно, продукты доставляли нерегулярно, о сливочном или подсолнечном масле мы и понятия не имели. Сказывалась ленинградская блокада, малокровие. Короче, все мы впали в апатию. Наше начальство прекрасно это знало, но ничего не предпринимало.
Именно в это тяжелое время я впервые вплотную столкнулся с Наркоматом внутренних дел (НКВД).
Однажды я дежурил на кухне — командир нашего отделения предпочитал доверять мне раздачу пищи, считая, что я делаю это справедливо. Дементьев, курсант пятого курса, которого я сменял, указал мне на один из запертых шкафов, предположив, что в нем, возможно, находятся ворованные продукты.
— Я не смог его открыть. Попробуй ты, тем более, что теперь твое дежурство, — сказал он.
Я выяснил, что ключ от шкафа находится у повара, который уже ушел домой. Вызвали дежурного офицера, и тот взломал замок ломом. В шкафу лежал завернутый в газету килограммовый кусок сливочного масла.
Это был июнь 1942 года. Незадолго до того Сталин издал приказ, согласно которому любой человек, пойманный с поличным на воровстве армейского продовольствия, подлежал расстрелу на месте. Такой приказ был радикальной мерой, ибо воровство процветало и превращалось в серьезную проблему снабжения фронта.
Я слышал об этом приказе, но до сих пор непосредственно не сталкивался с его применением на деле. К нам прислали несколько офицеров НКВД, которые арестовали повара. Началось расследование, и меня вызвали в качестве свидетеля.
Признаюсь, меня охватил ужас. Все тогда жили в смертельном страхе перед этой организацией. В пустой комнате офицер безопасности усадил меня на стул перед столом, на котором лежал лист бумаги и карандаш.
Оперативник задал мне несколько вопросов. Подозревал ли я вора раньше, известно ли мне было, что он хранит масло в шкафу, производил ли я дознание по собственной инициативе, собирался ли поймать повара на месте преступления и действовал ли, руководствуясь патриотическим долгом или исходя из каких-то других мотивов.
Я объяснил, что вообще не знаю этого повара, и рассказал обо всем, что произошло на кухне в тот день. Все это время офицер что-то быстро строчил на бумаге. Когда у него больше не осталось вопросов, я увидел, как на первой странице он крупными буквами написал сверху: ПРОТОКОЛ ДОПРОСА. Сначала я даже не мог понять, о каком допросе шла речь, и только потом осознал свою роль в этом деле.
Через несколько дней всех курсантов училища собрали во дворе — явление из ряда вон выходящее. Я все же ожидал, что вору дадут лишь хорошую выволочку, ну, скажем, неделю карцера. Офицер безопасности сделал шаг вперед и зачитал протокол расследования. Повара признали виновным и приговорили к расстрелу перед строем на следующий день на рассвете.
Мы молча разошлись совершенно ошеломленные. И больше всех это событие потрясло меня. Считая себя причастным к этому приговору, я изо всех сил старался скрыть свое состояние, хотя никто из моих товарищей не сказал мне ни слова по поводу случившегося.
Вор был расстрелян; приговор апелляции не подлежал.
Я часто думал об этом ужасном случае в моей жизни, как во время войны, так и после ее окончания. Чувства вины я не испытывал. Я, как и все, знал, что только самая жестокая дисциплина в нашей армии дала возможность оказать сопротивление захватчику, отстоять нашу Родину, борясь за каждый дом, за каждую пядь земли. Малейшее послабление могло обернуться катастрофой в боевой подготовке и подорвать моральный дух наших войск.
Положение на фронте в то время оставалось очень тяжелым. Немцы продвигались по Украине вдоль Дона в направлении к Сталинграду. По приказу Сталина половина состава флота была причислена к сухопутным частям армии. Мы также стали армейскими пехотинцами, но нас это не особенно огорчало. Тогда еще никто не знал, что Сталинград окажется местом самых кровопролитных боев Второй мировой войны, а 190 дней осады изменят ее ход и поставят в конце концов Германию на колени.
Итак, мы получили приказ двигаться к Сталинграду по Волге — несравнимо более легкий путь, чем тот, который нам пришлось преодолеть, добираясь до Ярославля. В Костроме начальник инженерного училища, в расположении которого мы остановились, сумел убедить наше начальство, что совсем негоже посылать нас на фронт без какой-либо подготовки, и уж особенно глупо превращать в пушечное мясо обученных инженеров, на которых государство потратило столько средств и времени. Поэтому наше руководство и военные власти решили оставить училище в Костроме на месяц или около этого. Нам дали задание освоить оборудование электростанции и поддерживать его в рабочем состоянии, чтобы обеспечивать подразделение «катюш» электропитанием. Вскоре после этого в Костроме окончательно решилась и моя собственная судьба.