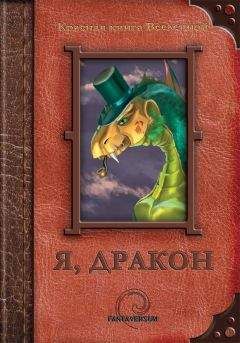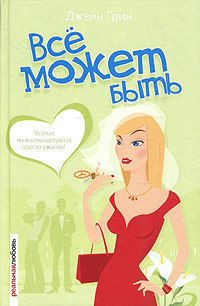— Ну все, как говорится: «Остапа понесло!» Ты вроде бы хотел про пять доказательств существования Бога рассказать, а сам на Ильича набросился. Не надо трогать покойного дедушку, не по-христианскому это.
— Как это покойного? Ты что забыл: Ленин жил, Ленин жив… Тьфу! Ладно, давайте вернемся к Аквинскому. На мой непросвещенный взгляд все эти пять доказательств вполне могут быть сведены к трем основным, а остальные являются промежуточными. Первое доказательство состоит в том, что, по большому счету, все вещи в мире делятся на две группы. К первой группе относятся вещи, которые являются только движимыми. Ко второй группе относятся вещи, которые, помимо того, что движутся сами, еще и приводят в движение другие вещи. Но ведь вещи второй группы тоже должен кто-то двигать. И если исключить возможность бесконечных умозаключений от причины к следствию, то в какой-то точке мы обязательно должны прийти к тому, что инициатор всеобщего движения неподвижен. Это и есть Бог, по Аквинскому. Второе доказательство сводится к констатации того, что мы наблюдаем в окружающем нас мире различные степени чего-либо совершенства, а значит, должен быть источник этих степеней. Источник должен быть абсолютно совершенным. И этот источник тоже Бог по Аквинскому. Суть третьего доказательства состоит в целевом предназначении неодушевленных предметов природного происхождения. В быту мы эти предметы не используем, и назначение этих предметов нам непонятно. Непонятно потому, что они созданы с неизвестной нам целью. Цель, для которой созданы эти предметы, известна, только их создателю, то есть Богу.
— Не совсем убедительно, но интересно. Логика, во всяком случае, присутствует. И где ты всего этого начитался? Наша цензура в библиотеки литературу такого содержания обычно не пропускает.
— А в различных критикующих книженциях. В которых критикуется все, кроме социализма с коммунизмом. Начнут, например, Ветхий Завет критиковать в какой-нибудь «Занимательной Библии», при этом все равно вынуждены будут рассказать что-то о критикуемом предмете. Вот так по крупицам и удается иногда что-нибудь узнать, кроме всевозможных и доступных «измов».
— Ладно, мужики, давай спать. Смотрите-ка, уже рассвет наступил. А завтра обычный военно-трудовой день. Следующий раз предлагаю о Сенеке поговорить.
— Спокойного утра! Материалистические, вы мои, теологи! Ха-ха-ха. Х-р-р. Х-р-р. Хыр-пыр. Ю-ю-ю.
Иногда впадали военные в озабоченность по поводу перспектив существовавшего тогда строя. Нет-нет, мыслей о том, что строй этот через какой-то десяток лет так просто и в одночасье рухнет, конечно же, не было. Просто некоторые из партийных вождей в то время обещали дать народу в ближайшее время возможность пожить при коммунизме. Так прямо и писали на больших плакатах с изображениями делающего ручкой вождя: «Нынешнее поколение молодых людей будет жить при коммунизме!» А военные как раз в то время молодыми и были, и им тоже хотелось попасть в число неких каждых: «От каждого по возможности, каждому по потребности». Но иногда казалось им, что все идет не совсем так, как провозглашалось с высоких трибун величественных съездов родной такой для всех военных коммунистической партии. Партии, являющейся организующей и направляющей такой всесильной силой, силой великого в могучести своей Советского Союза.
А когда возникали у военных такие вот сомнения, они тут же впадали в озабоченность. И, пребывая в этом состоянии, вели меж собой приблизительно такие диалоги:
— Что-то я не пойму, мужики, вступили мы недавно в эпоху развитого социализма, и обещают нам скорое вступление в коммунизм. Я, например, проявление коммунизма на бытовом уровне так понимаю: потрудился я радостно, столько, сколько смог я сегодня на благо коммунистического общества, притомился в радости своей и, по пути с работы зашел в продуктовый пункт. Это уже не магазин какой-нибудь, где товар меняют на деньги. Деньги-то уже к тому времени выйдут из обращения. Так вот, зашел я в этот пункт и взял все строго по своим потребностям. Не больше трехсот грамм осетринки, картошечки несколько клубней, ветчинки и сыра с зеленью на утренний завтрак.
— Здоров же ты жрать, военный. Осетринки, завернутой в ветчину, ему вдруг захотелось. Что, неужели овсянно-пшенно-шрапнельные кашки надоели? Коммунизм, он может, как раз, и подразумевает, что все твои потребности кашками этими и должны ограничиваться, а возможности твои, усиленные коммунистической идеей, при этом должны быть безмерно велики. Пашешь себе от зари до зари с радостью, а в перерывах присаживаешься на пенек и горшочек каши в той же радости уминаешь. И не уйти ведь с работы-то пораньше, на пике коммунистической сознательности находясь такого нельзя допустить. Прислушиваешься к себе — ого, возможности-то еще остались! И продолжаешь себе дальше и радостно так трудиться. Пока не унесут ногами вперед. И нести будут, заметь, тоже с радостью. Потому что без радости в коммунизме нельзя. Классики, по-моему, только на нее и надеялись. Самой реальной вещью во всей их теории оказалась эта непонятно откуда берущаяся радость от какого-то освобожденного кем-то и от кого-то труда.
— Ну ладно ты, циник известный. Дай закончить. А то сейчас забуду, о чем, собственно, сказать хотел. Так-вот, на следующий день, по завершении радостного, очередного моего трудового подвига, потребности у меня уже несколько другие (все же имеет свойство надоедать, в конце концов, и осетрина, и икра). Могу я, к примеру, вместо осетринки взять такое же количество свининки розовой, свеженький такой кусочек. Ну а далее макарончиков еще могу взять на без избыточный свой ужин вместо картофельных клубней, и не землисто-серых макарончиков, пролеживающих на витринах нашего развитого социализма, а нормально-белых таких из так называемых твердых сортов пшеницы. Пшеницы у нас такой, слава Богу, хватает пока, несмотря на всю рискованность нашего земледелия.
— Слушай, ты уже надоел, слюней уже полон рот. Если так дальше будет продолжаться, все опять закончится трампарком. Осетринкой никто там конечно не угостит и свининки не отрежет, но по свиным сарделькам ударить уже не мешало бы.
— Все, прекращаю о жратве. Никак не могу от нее оторваться и перейти непосредственно к коммунизму. Ну вот значит, стою я в продовольственном этом пункте и в мыслях даже у меня, морально к коммунизму подготовленного, не промелькнет таких мерзких помыслов, чтобы стибрить, к примеру, еще килограмма три лобстеров на бесконтрольно-доверительную коммунистическую халяву. Я ведь трезво оцениваю свои естественные съестные потребности и твердо понимаю, что не съем за вечер столько. А если все же очень постараюсь и все таки сожру все, с трудом сдерживая нарастающую справедливость возмущения организма, то переварить мне все это качественно, с пользой для не вполне уже коммунистического себя, в любом случае уже не удастся. Ведь высочайшая житейская мудрость, относящаяся не только и не столько к еде, говорит нам о том, что абсолютно неважно, сколько вообще мы можем съесть, самое главное — это то, сколько мы можем с пользой для себя переварить. Тьфу! Опять понесло.
— Короче давай, Склифасовский! Достал ты уже всех. Минуту еще даем тебе, птица-говорун.
— Так вот. Гляжу я на бесконечные очереди в продуктовых магазинах развитого нашего социализма и думаю: если толпится очередь значит, где-то неподалеку притаился дефицит. Очереди, особенно за мясными продуктами, становятся год от года все длиннее, а притаившийся было дефицит становится все толще и наглее и, того и гляди, скоро будет свободно разгуливать по улицам наших городов.
— Да он давно уже свободно разгуливает по всем городам и весям великого нашего СССР. Это вы тут зажрались в своем Ленинграде да в Москве, ну еще в столицах национальных республик относительно неплохо. Поездили мы по практикам да стажировкам. Насмотрелись кое-чего и представляем уже более или менее общую картину. Представляем, например, что уже в пятидесяти километрах от Москвы куска вареной колбасы купить невозможно. Вот и ездит все Подмосковье и сопредельные с ним области на выходные в Москву и рассыпается там по проверенным магазинчикам, в которых успех наиболее вероятен при минимальной длине очереди. А некоторые ленивцы — нет, не ищут легких путей, занырнут сразу, с электрички сойдя, в какой-нибудь привокзальный магазинишко и стоят там до сумерек в надежде на парочку батончиков псевдо-мясного в закрахмаленности своей и набитого туалетной бумагой продукта. И домой! В лучшем случае с победой, добытой ценой потерянных выходных. Недаром родился в народе анекдот-загадка: «Что это: длинное, зеленое, колбасой пахнет?» Ответ знаем: «Подмосковная электричка в выходной день».
— А взять сопредельные области? Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Тверскую? Да что говорить, из этих горе-областей все равно в разумные сроки до Москвы можно доехать! А как же остальная наша матушка Рассея?