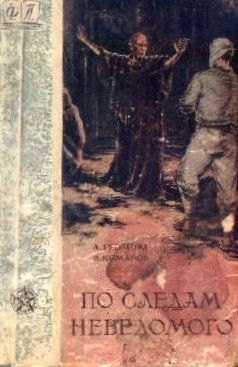— Что ж они делают?
— Как что? Развёртываются. Сегодня развёртываются, завтра развёртываются, второй месяц развёртываются... Это как у нас в Калужской губернии говорят: день не едим, два не едим... долгодолго погодим — и опять не едим...
Доктор стремительно сорвался с места и раздражённо продолжал:
— Только другим мешают. Раньше мы в головном лазарете больных не задерживали. Сортировали и — марш по госпиталям: чтобы другим место очистить. А теперь приказано: раньше как через три дня никого не эвакуировать. Надо же «кузинам» предоставить возможность голодных солдатиков покормить... Вы подумайте: в головном лазарете по три дня больного держать! Ведь мы в горячие дни по две тысячи человек пропускаем. Слышите, что на фронте творится? С завтрашнего дня начнут нам раненых полками подваливать. Куда их денешь? Сестрицам в кровать положим?!
— А сплавить их отсюда нельзя?
— Так они и пошли! Ведь место какое! Развадовского замок. Вы днём посмотрите. Это — настоящий музей. Теперь все разграблено, конечно, перебито, загажено. От резных буфетов осталась только обшивка, кресла — без спинок. Ещё бы! Целый месяц полированными дровами топили. Столы, стулья, этажерки красного дерева, даже футляры от часов на растопку печей пошли. Из ковров попоны наделали. Картинами окна затыкали...
— Это ваши лазаретные поработали?
— Как водится. Все по программе. Сперва пришёл штаб корпуса и выпил вино из погребов пана Развадовского. Долго пили! Вон сколько предков вино в погребах копили, — махнул он рукой на ряд портретов. — Потом пришли казачки, допили остатки вина, порезали ковры на попоны, унесли часы, граммофоны, сервизы. Там в углу и сейчас какой-то музыкальный ящик валяется — с инкрустациями на палисандровой крышке. За казачками — госпиталя. И придали маёнткам вельможного пана Развадовского тот самый вид, в котором застаёт их наше повествование...
— Кушать подано, — возвестил санитар.
— Пожалуйте, дорогие гости, к столу, — засуетился Шебуев, — и откушайте на остатках пышных сервизов. Каюсь, коллега. Когда мы пришли сюда, мы застали в буфетах груды саксонского фарфора. Такие чашки, вазы, тарелки, что глаз оторвать нельзя. Но разве нашему Кирилке внушишь уважение к саксонской вазе? Через неделю и черепков не осталось... А что осталось, — прибрали к ручкам «кузинки»...
В столовой довольно людно. Пять врачей, заведующий хозяйством, письмоводитель, два раненых офицера. Едят молча. Только доктор Шебуев говорит не переставая. Он перескакивает с предмета на предмет, точно подстёгиваемый ударами пушек. Дрожат оконные рамы. Звенит посуда. Подскакивают ложки и вилки. Доктор громко выкрикивает каждую фразу, но многие слова теряются в грохоте орудий.
— Вы думаете, пушки зачем гремят? Чтобы убить одну-две тыщи народу?.. Ничего подобного. Стреляют, чтобы оглушить и ослепить живых... Вы посмотрите на меня: куда я к черту гожусь? Тут в один день переживёшь больше, чем дома за целое столетие... Да и там у всех в душе — пустота... Напечатают в газетах, что в Нью-Йорке дом обвалился... шестнадцатиэтажный небоскрёб... и триста человек задавило... Господи, какой шум поднимется! А в тех же газетах каждый день печатают жирным шрифтом: наступление, атака, обстрел... Раненых сорок тысяч, убитых пять тысяч... И хоть бы кто бровью повёл! А почему?.. Потому что пушки...
— Ну какое сравнение? — говорит один из раненых офицеров. — Тут идёт борьба за культуру...
— Послушайте, — набрасывается на него Шебуев, — вся ваша теперешняя культура — та же война. Война, притворяющаяся миром. Мира нет и не может быть там, где все решается штыком и насилием. Войны, как месячные кровотечения у женщины, повторяются с точной периодичностью через каждые двадцать пять лет... И это называется культурой?..
* * *
Утром чуть свет лазарет уже на ногах. Прибыли первые транспорты раненых — с землистыми лицами, с блуждающими глазами и запёкшейся кровью на повязках. Иду на пункт за детритом. Ни Шульгина ни доктора нет: оба со вчерашнего дня во Львове. Какой-то краснощёкий мужчина в костюме земгусара с наплечниками сурово внушает плачущей бабе:
— Ну, чего ты ревёшь?.. Только тоску наводишь... Ничего не поделаешь... На войне, милая, ни шестой ни седьмой заповеди не существует...
— Нельзя ли у вас детрит получить для воинской части?
— Детрит? — с изумлением переспрашивает краснощёкий мужчина. — Что это — лекарство или продукт?
— Это — оспенная вакцина.
— А!.. Нет, медицинские ящики не распакованы... Ведь мы ещё только развёртываемся.
* * *
Снова в Шинвальде. Идёт жестокий обстрел наших позиций на Дунайце. Противник бьёт из орудий всех калибров. Но горластые «берты» покрывают все голоса. Дома трясутся как в лихорадке. Пробую читать — невозможно. Через минуту забываю прочитанное. Вижу, как шевелятся бледные губы командира. Слышу голоса офицеров. Но ничего не соображаю. Звуки отскакивают от сознания, как слова, произнесённые на непонятном языке. Делаю мучительные усилия, чтобы как-нибудь вывести из этого состояния и себя и других. Ничего не выходит. Все с тайным трепетом ждут приказа об отступлении. Все устали, замучены и больше всего на свете хотят тишины.
— Если это сегодня не прекратится, я начну выть, как собака, — говорит в отчаянии адъютант.
Но ураганный бой все растёт. Вторые сутки противник сосредоточенно бьёт по нашим батареям. Адское пламя сметает с пути, как сор, дома, деревья, окопы. Тщетны усилия противника. Его бешеная настойчивость кажется нам безрассудной тратой снарядов. Мы отвечаем слабо, но природа сама позаботилась о нашей защите, разбросав на берегу Дунайца огромные скалы, за которыми скрыты все наши пушки. Вторые сутки неприятель гвоздит по этим скалистым заграждениям. Слышно, если приложить ухо к земле, как шестидесятипудовые «кабаны» гигантскими молотами опускаются на мёртвые камни. И Ханов ежеминутно делится с нами своими наблюдениями:
— Гудут, как пчелы в дупле... Точат, как шашель древо... И строит мрачные выводы:
— До вечера всех нас до одного перебьют!..
— Тебе хорошо, — лениво шутит Болконский, — у тебя и сад, и жена, и дети... Все-таки работники остаются. А у меня, Ханов, ни сада, ни дома, ни жены. Одна мать-старушка.
— Кому умирать охота? — с обычной угрюмостью огрызается Ханов. — И жук, вон, о жизни просит... А без бабы лучше. От бабы всегда смерти ждёшь... Да и нечего нам работать, ваше благородие! Чужие дела работать, хоть век работай, — это маловажно. Своё кабы было... Наша старость — котомка. В комнату поспешно входит взводный Федосеев:
— От Кромского полка за патронами прислали. Просят хоть три двуколки отпустить.
— Отчего ж они к нам приехали, а не в головной эшелон? — удивляется Базунов.
— Из Кжишова головной эшелон доносит, что все патроны уж розданы, — объясняет Старосельский.
— В тыловом парке также снарядов нет, — вставляет штабс-капитан Калинин.
— Прапорщика Кузнецова я послал за снарядами в Дембицу, — говорит Кордыш-Горецкий. — Он прислал ординарца с донесением, что в местном парке снаряды получатся не раньше, как через сутки.
— Отпустить одну двуколку патронов из неприкосновенного запаса, — отдаёт распоряжение Базунов.
— Мало, ваше высокородие, — говорит взводный. — Артиллерия работает плохо. Одними пулями отбиваются...
— Исполняй, что приказано! — резко вмешивается Старосельский.
— Слушаю-с, — произносит Федосеев и уходит.
На войне нет места неврастении. Человек подбирается, как зверь для прыжка, и каждая жилка в теле кричит ему: подтянись!..
По-прежнему орут горластые пушки. По-прежнему вздрагивают домики. Но голова свежа после сна, и на душе уже нет вчерашней тоски. Солнце большим сверкающим кругом поднимается над землёй. Ажурным узором раскинули деревья свои вспухшие почками ветки и, как сквозь плетёное кружево, пропускают снопы искристых лучей. Вестовые весело суетятся. Начисто моют полы, перетирают два дня не убиравшуюся посуду. Не хочется думать о канонаде, о смерти, о грядущих опасностях.
— Солнышко-то как разгулялось! — весело потирает руки доктор Костров. — Эх, родина — великое дело!..
Болконский извлёк из своих бездонных сундуков какие-то необычайно вкусные сласти с мармеладом и финиками и потчует ими офицеров и денщиков.
— Гридин! — улыбается штабс-капитан Калинин. — Нельзя ли раздобыть?
Гридин — штабной фельдфебель из жандармов, известный своим уменьем раздобывать водку из-под земли.
— Так точно, — отвечает он своим сладеньким голосом, — у жидов есть... И конфеточки киевские, и коньячку, не угодно ли?..
— Шикардос! — вскакиваете возбуждении Кордыш-Горецкий.
Вернувшийся из лазарета перевязанный прапорщик Болеславский деликатно отставляет пододвигаемые Болконским сласти и решительным голосом объявляет:
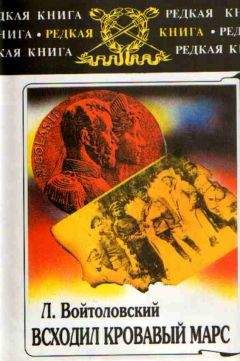

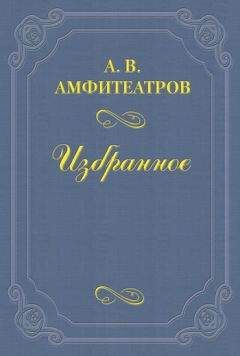
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)