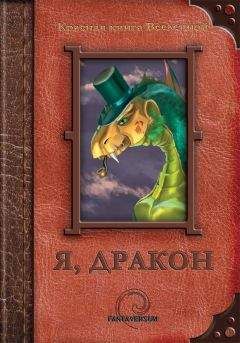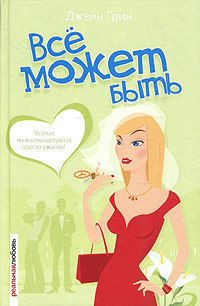Во-вторых, были эти коренные, в большинстве своем, излишне капризны и весьма жеманны — те немногие из военных, кто решался сделать предложение внешне лучшим представительницам коренного населения, выслушивали, как правило, очень много встречных предложений. Предложения формулировались в виде дополнительных условий, к примеру, таких как: «Ты должен остаться служить в Ленинграде», «Дальше Москвы я не поеду», «Куда угодно, но через три года мы должны вернуться с приличными деньгами и на машине» и т. п. Очень немногие военные могли дать такие гарантии. А те, кто все же их давал, пусть даже в необязательной устно-шутливой форме, сильно потом об этом жалели.
В-третьих, были местно-коренные дамочки всегда очень сильно напряжены относительно своей ленинградской прописки. Был у них такой извечный комплекс, разрушивший довольно много истинных человеческих чувств. Большинству из них казалось, что ухаживающие за ними военные просто спят и видят себя прописанными в пределах бывшей столицы Российской империи. Нет, существовали, конечно же, особо прагматичные военные, которые именно о прописке этой только-то и мечтали, изображая пылкую любовь к какой-нибудь ломкой и прозрачной в бледной синеве своей коренной «петербурженке». А как же дальше без истинного и глубокого такого чувства? Но прагматики есть прагматики:
— Брак по расчету тоже может быть счастливым, — говорили они и добавляли с самоуверенной ухмылкой, — ежели расчет у нас окажется правильным. А уж чему-чему, а правильному расчету нас научили».
Но, в большинстве своем, пресытились военные питерскими красотами и давно уже мечтали сменить климат и обстановку, начав новую, полную перспектив жизнь в местах еще более романтичных, и часто повторяли старое военное изречение: «Дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут!» Кроме того, давно уже надоела военным некоторая специфически питерская кичливость. Непонятно было, например, почему часто грязный, загаженный и исписанный всяческими непотребными словами общий вход в некое хрущобоподобное жилище назывался вдруг парадным (?!). И почему простой в восхитительности своей советский батон назывался в Питере какой-то булкой? И многое-многое другое тоже было непонятно.
Непонятно было военным и то, чем вызвано извечное питерское бурчание по поводу того, что военный присел на пассажирское сидение в полупустом троллейбусе? Нет, понятно, когда троллейбус переполнен и некоторым пожилым дамам вдруг не хватило сидячего места. В этом случае, большинство военных сразу вежливо вставало и пропускало этих уставших от жизни дам на освобожденное без всяких напоминаний место. Хотя большинство представителей гражданского населения часто подобным образом не поступало, но никто на этих представителей никогда почему-то не бурчал. Даже анекдот по этому поводу имел хождение в питерском народе. Суть анекдота состояла в следующем.
Заходит как-то некая стареющая в остатках своей модности, эдакая такая вычурно-коренная «петербурженка» в переполненный троллейбус. Свободных сидячих мест, естественно, нет. Она стоит, некоторое время придерживаясь за поручень и меча возмущенные взгляды на покачивающиеся над пассажирскими сидениями озабоченные мужские головы, погруженные в различного вида «чтиво» и, наконец, с гневной дрожью в голосе громко произносит: «Неужели в этом троллейбусе нет ни одного джентльмена?!» Один из мужичков выныривает из «чтива» и с удивлением смотрит на возмущенно-вопрошавшую. «Да нет, мадам, джентельментов тут видимо-невидимо, — флегматично произносит наконец удивленный мужичок, — просто местов на всех не хватает».
Вот так. Вот такая народно-транспортная и типично питерская зарисовка. Вот такая вот полуанекдотичная быль о транспортном поведении гражданских «джентельментов». Но шипели всегда почему-то только на военных. Видимо, потому и шипели, что в отношении военных делать это было очень даже безопасно. Безопасно потому, что военные всегда всеми силами пытались уйти от подобного рода конфликтов. Берегли, так сказать, честь своего незапятнанного еще мундира.
А некоторым питерским «транспортным» хамам, из числа гражданского населения, беречь было нечего. И, порой, интересно было наблюдать очень похожие друг на друга сцены, в усредненном варианте состоящие приблизительно в следующем.
Заходит, к примеру, в трамвай утонченная, в своей внешней интеллигентности, истая такая «петербурженка» и подчеркнуто вежливо так просит подвинуться некого восседающего скраю гражданина к окну. Подвинуться так слегка и освободить ей, даме, значит, место скраю двухместного пассажирского сидения. И далее происходит между вошедшей дамой и сидящим с краю гражданином приблизительно такой диалог.
— Делать мне больше не хрен. Пролезай к окну сама и не выеживайся здеся.
— Как-как вы изволили выразиться?! Что это вы себе такое позволяете?! — возмущенно было вскрикивает, судорожно, по рыбьи так, кислородно так голодно, хватает воздух истонченным в породистости своей горлом, истая «петербурженка», но, видимо, вспомнив про врожденный ген интеллигентности, постепенно берет себя в руки, несколько успокаивается и добавляет ровным металлическим голосом: — Потрудитесь-ка, достопочтимый сударь, все же выбирать выражения при общении с дамами. Неужели вам так трудно подвинуться? Неужели это вас так существенно затруднит?!
— Да пошла ты, дура, на хрен, «дама» тут нашлась, — возмущенно откидывается на спинку сидения «достопочтимый сударь», а по совместительству вполне обычный питерский «трамвайный» хам, — я тут, да будет известно тебе, зараза противная, давно уже здесь сижу, место уже себе тут пригрел, а она теперь является, лахудра помойная, и пищит своим противным голоском: «Пи-пи-пи. Будьте любезны — подвиньтесь!» Я тебе сейчас так любезно про меж глаз подвинусь, змеюка ты подколодная, ведьма чертова, в форточку сейчас у меня на метле своей вылетишь!
— Что, что?! Да вы хам и, вероятно, еще и большой подлец! — дрожит утонченный голос возмущенной мадам. — И как только земля наша подобных подонков носит?!
Все больше и больше расходится в ответной грубости своей «издревле истая» — претендующая на интеллигентность, утонченная такая в познании достижений различного вида искусств, горделивая дочь великого города. А в ответ ее внешне сдержанным еще словам несутся отнюдь не способствующие сглаживанию ситуации, мерзкие в грубости своей выражения.
— Вали отсюда, сука говорливая, пока не зашиб, б…у, ненароком!
(И тут, наконец-то, наступает кульминация. Лживые маски, наконец, оказываются сброшенными и растоптанными на грязном трамвайном полу).
— Ах ты, гнида вонючая, щаз-то я тебе рожу-то твою мерзопакостную расцарапаю! В клочья порву, тварь! Вонь подритузная! Выкидышь кошачий! М-р-р-азь!
Дальше-больше. Перечень этих, весьма относительно нормативных, фраз заканчивается. Далее начинается такое… Ведь, казалось бы, только что, недавно совсем еще, вот только пару минут назад, утонченная такая в фамильной своей интеллигентности дама, и вдруг с диким вигом набрасывается на погрязшего в хамстве трамвайного пассажира, изрыгая при этом такой водопад отборнейших ругательств, что у оказавшихся совершенно случайно в непосредственной близости от произошедшего военных попросту багровели уши. Военные растаскивали вцепившихся друг в друга спорщиков, попутно отвешивая тумаки трамвайно-хамствующему гражданину, а уши военных все багровели и багровели. Багровели и сворачивались в тоненькую длинненькую такую багровую трубочку, блокируя, тем самым, естественные военно-чуткие слуховые каналы. Блокировали для того, чтобы воспрепятствовать проникновению убийственной дозы трехсотпроцентного негатива внутрь внешне крепкой черепной коробки военных. Это только и предотвращало гибельное разрушение тонюсенько-микронного в беззащитности своей слоя остатков мозга военного, всегда равномерно по костям черепной коробки распределенного.
Можно только представить себе образность и силу тех интеллигентных, проникающих в душу слов, если такие вот физиологические модификации происходили со случайно услышавшими их военными. Военными, воспитанными в очень простой такой и даже, можно сказать, грубой, ну, словом, вовсе даже неинтеллигентной такой среде. Военными, очень много чего уже слышавшими и до этого, некрасивого такого, но типичного для Питера события. А что же делалось с модифицировано-заблокированными ушами военных? Как придавались им привычные пельменные очертания? Приходилось военным в этих случаях становиться самыми прилежными и исполнительными пациентами косметических кабинетов. Их там знали уже давно, в кабинетах этих. Военные и по другим случаям туда часто обращались. В основном с просьбами по закатке губ в первоначальное состояние. Военные, они ведь привыкли всегда доверять власти. Власть, к примеру, что-нибудь пообещает военным, а те принимаются тут же раскатывать губы. А в эту раскатанность ничего из обещанного почему-то не попадает. Через некоторое время военным надоедает ходить с развивающимися на ветру губами (очень большая парусность, знаете ли) и они обращаются в косметологические кабинеты, а там их встречают, как родных, и закатывают им губы обратно с помощью специальных, купленных за границей, механизмов.