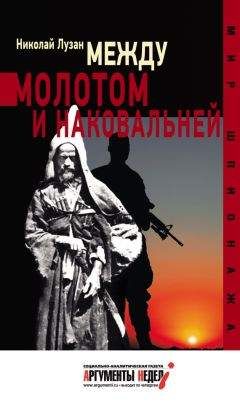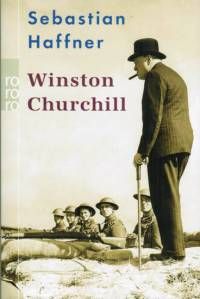И тут справа от нас в кустах раздался треск сухих веток и из— под пальмы показался Ашот. Перебросив автомат за спину, он перекрыл дорогу и вежливо, но настойчиво предупредил:
— Здесь нельзя! Вам лучше спуститься по левой боковой аллее.
— Хорошо! — не стал возражать я.
А Лида не удержалась от вопроса и спросила:
— А что, Владислав Григорьевич уже приехал?
— Да, — помявшись, нехотя ответил Ашот.
Здесь уже Олеся, набравшись смелости, поинтересовалась:
— Как он себя чувствует?
— Нормально! — поспешил закончить разговор Ашот и, стараясь нас не обидеть, попросил: — Ребята, вы сами понимаете, тут задерживаться нельзя, поэтому давайте поговорим потом, когда освобожусь с поста.
— Конечно-конечно! — быстро согласились мы и свернули на левую боковую аллею.
Через десяток метров густые заросли скрыли Ашота, проснувшееся в нас жадное любопытство оказалось сильнее его предупреждения. Оглянувшись по сторонам и не заметив других часовых, я, а за мной и дочери, не сговариваясь, начали осторожно пробираться к аллее гигантских слоновых пальм. По моим расчетам, в конце ее открывался вид на кипарисовую аллею, где в это время мог прогуливаться президент. Никем не замеченные, мы благополучно добрались до склона холма, с которого хорошо просматривался нижний парк, и, спрятавшись за пышными кустами папоротника, принялись высматривать Владислава Григорьевича.
Первой увидела президента, вернее, его охрану глазастая Олеся, и все наше внимание сосредоточилось на худощавой мужской фигуре, которая то появлялась, то затем исчезала за стволами кипарисов и крепкими телами двух телохранителей. С такого расстояния трудно было различить лица, но то, что это был Владислав Григорьевич, у меня не возникало ни малейших сомнений, рядом с ним находились Ибрагим с Кавказом. Даже с этого расстояния было заметно, что болезнь сказалась на нем, каждое движение ему давалось с трудом, а долгие остановки говорили о том, что все усилия врачей пока не принесли результата.
Я переглянулся с дочерьми, и на их лицах прочитал ответ. В их душах творилось то же самое, что и в мой душе. Это были сложные и противоречивые чувства, в них смешались жалось к Владиславу Григорьевичу как человеку и уважение как к политику, который даже в этом положении продолжал твердо держать власть в своих руках. Власть, которая в последнее время все более тяжким бременем давила на него и народ. Первой почувствовала ее близкую кончину алчная армия чиновников — с присосавшимися к ним, как пиявки, родственниками — и принялась беззастенчиво набивать себе карманы и втаптывать в грязь его когда-то святой для большинства образ отца и защитника нации.
Мои глаза по-прежнему были прикованы к Владиславу Григорьевичу, а в памяти всплывал тот прошлый яркий и навсегда запомнившийся образ несгибаемого лидера своего самобытного и гордого народа, обаятельного человека, перед блестящим и острым умом которого ты испытывал неподдельное восхищение. Быстрый в своих движениях и мыслях, полный неукротимой энергии, он невольно заражал тебя своей верой и уверенностью.
Когда я впервые увидел его?!
Лет пятнадцать или шестнадцать назад. То было время бурных перемен и, как потом оказалось, несбывшихся больших надежд и горьких разочарований. Страна и народ мучительно и трудно приходили в себя после кровавых сталинских репрессий и разлагающего душу брежневского застоя. Одряхлевшая и потерявшая былую мощь обюрократившаяся партийная машина была уже не в силах сдерживать копившуюся десятилетиями энергию протеста против коррумпированного и давно изжившего себя коммунистического режима. Ее вальяжные и закормленные привилегиями функционеры безнадежно проигрывали одну позицию за другой тем, кто, наплевав на карьеру и собственное благополучие, смело и решительно боролся за людей и дело.
И эта могучая волна людских надежд и ожиданий вынесла в 1988 году на самый ее гребень из тиши научного кабинета его — Владислава Ардзинбу, доктора наук, директора Абхазского института языка, литературы и истории имени Д. И. Гулиа. С этого дня он уже больше не принадлежал ни себе, ни семье, ни друзьям. Время и история выбрали именно его, сумевшего сделать то, что до него не удавалось никому другому, — привести свой народ к свободе и независимости.
В нем, как в фокусе, отразилась та вековая мечта и надежда, которой жили отцы и их славные предки. В годы войны, что шла не на жизнь, а на смерть, он стал символом несгибаемого духа и непоколебимой веры в победу над тысячекратно превосходящим врагом. В нем черпали свою силу и уверенность ополченцы, когда из последних сил отбивались от ожесточенных атак гвардейцев у Гумисты и под Ахбюком. В него верили сражавшиеся в окружении командиры и бойцы Восточного фронта. Он давал силы старикам, детям и женщинам, боровшимся с голодом и холодом в блокадном Ткуарчале. И потом, когда пришла долгожданная победа, они — победители, стиснув зубы, целых пять лет терпели вопиющую несправедливость — блокаду, которой циничные политики хотели поставить их на колени. В те годы и дни они снова черпали в нем свою силу и верили в то, что «наш Владислав» ни за что не «сторгует» великие жертвы, что они принесли за свободу своей родины. С тех пор минуло для кого-то всего шестнадцать, для других целых шестнадцать лет, а для него…
О чем мог сейчас думать первый президент Абхазии там, на кипарисовой аллее в горьком одиночестве? Суровое и беспристрастное время отсчитывало последние месяцы и дни его власти.
Власти!!!
…Власти, за которую, как многие сегодня думают, он цепляется из последних сил. Власти?
…А что они о ней знают?
…Лучи ее славы ослепляют, но не греют. Власть — это прежде всего беспощадная борьба, и не столько с противниками, сколько с самим собой, когда перед тобой на одной чаше весов лежат любовь, многолетняя дружба, а на другой — интересы нации и страны. Разве могут знать они, бывшие друзья-романтики, что на самой вершине власти нет места человеческим чувствам, там ждет только одно холодное одиночество! Власть жестока и эгоистична, она не прощает слабости и не терпит рядом с собой друзей!
Друзей?!
…Шесть лет прошло с того дня, когда в последний раз в тесной, заставленной от пола и до потолка книжными полками квартире Станислава Лакобы, где самой дорогой вещью был старый рояль Натальи, они отмечали его день рождения. И после того — ни одного звонка и ни одной встречи. Политика безжалостно вмешалась в старую дружбу и развела их по разные стороны баррикад. Да что Станислав, если даже ироничный добряк Алик Бгажба и тот никак не напомнил о себе.
Когда, в какой момент ему стало окончательно ясно, что политик обречен на одиночество и в его сердце нет места для дружбы и доверия? Когда это произошло?
…Может, в 1993-м на переговорах в Москве, когда он на мгновение растерялся и едва не дал слабину от вероломства Ельцина, который после очередного стакана водки отказался от прежних договоренностей и заплясал под дуду Шеварднадзе. Или 14 августа 1997-го в Тбилиси, где его и Абхазию пытались унизить и растоптать.
Как бы то ни было, но с каждым новым годом он становился все более одиноким. Одних друзей забирала смерть, и память о них продолжала жить в его сердце незаживающей раной. Другие тихо отходили в сторону и этим причиняли не меньшую боль, оставляя его один на один с властью и самим собой.
Властью, которая выжала его без остатка, но, несмотря на это, он продолжал оставаться в ней только ради того одного, в котором не мог и не имел права ошибиться, чтобы, когда придет день и час, передать ему в руки самое дорогое, что было в жизни, — Абхазию, за которую он боролся, не щадя ни себя, ни врагов, ни друзей.
Сколько их — претендентов — премьеров и министров прошли перед ним за последние годы? Пять, шесть?! И никто не сумел до конца выдержать сурового испытания властью. Последним в этом ряду остался Рауль Хаджимба. Целых четыре года Ардзинба терпеливо поднимал его с одной ступеньки властной пирамиды на другую. Рауль оказался прилежным учеником, но хватит ли ему одного прилежания и упорства, чтобы и дальше уверенно вести маленький корабль под названием Абхазия в бурном и жестоком море политики? Хватит ли ему воли и твердости, чтобы не согнуться под тяжким бременем власти и не стать бледной тенью Владислава Ардзинбы? Будет ли он так же прозорлив и дальновиден, тверд и неуступчив перед сильными мира сего, чтобы не позволить превратить себя в послушную игрушку пусть даже в дружественных руках…
Видимо, подобные мысли терзали президента, застывшего в неподвижности в конце аллеи и пристально вглядывавшегося в город. Он словно пытался найти ответы на эти вопросы в той, ставшей во многом благодаря ему свободной и жаждущей перемен Абхазии.
Встречу эту мы не планировали, все получилось как— то спонтанно. Из Ачандары неожиданно подъехал Батал Ахба, с которым я не виделся больше трех лет, у Феликса Цикутании, как всегда, в кармане завалялась лишняя тысяча рублей, а у запасливых братьев Читанава сохранилось прошлогоднее вино. Недолго думая, с подачи Феликса решили организовать хлеб— соль по дежурному варианту в «Абхазском дворе» у безотказного Бено.