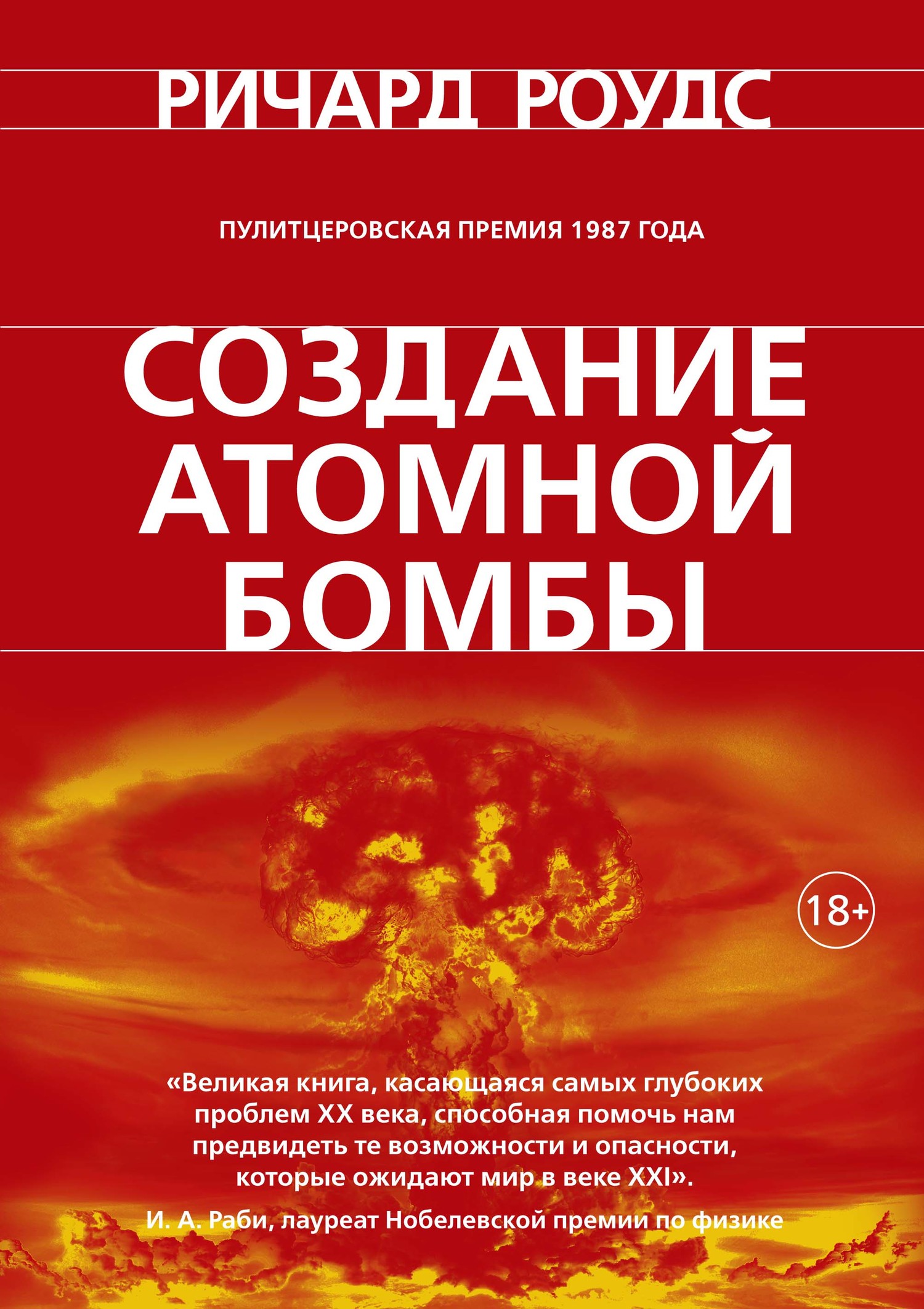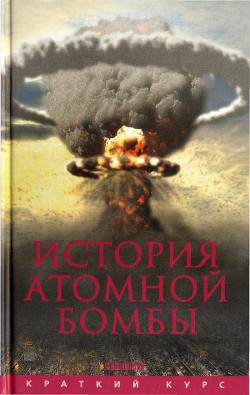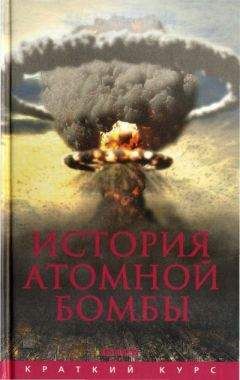либо изотопами урана, либо трансурановыми элементами. «Ган, – говорит Фриш, – как будто вернулся в старые времена, когда новые химические элементы сыпались как спелые яблоки, стоило лишь потрясти дерево; [но] для Лизы Мейтнер [энергетические реакции, необходимые для производства этих новых элементов] были неожиданными и все более труднообъяснимыми» [1033].
Тем временем Ирен Кюри тоже начала изучать уран вместе с приезжим югославским ученым Павле Савичем. Они описали продукт с периодом полураспада в 3,5 часа, о котором немцы не сообщали, и предположили, что он может быть торием, элементом номер 90, с которым Кюри работали на протяжении многих лет. Если гипотеза Кюри – Савича была верна, это означало, что медленный нейтрон каким-то образом набирает энергию, достаточную для выбивания из ядра урана высокоэнергетической альфа-частицы. Трое из Института кайзера Вильгельма усмехнулись, поискали 3,5-часовой распад, ничего не нашли и отправили в Радиевый институт требование публичного опровержения. Французская группа снова обнаружила тот же активный продукт и сумела отделить его от урана химическим путем с использованием несущей среды на основе лантана (редкоземельного элемента с номером 57). Поэтому они предположили, что это либо актиний – элемент 89, химически подобный лантану, но еще хуже, чем торий, поддающийся объяснению, – либо новый, неизвестный элемент.
В любом случае их данные ставили под сомнение работу Института кайзера Вильгельма. В мае Ган встретился с Жолио на химической конференции в Риме и доброжелательно, но откровенно сказал французу, что сомневается в открытии Кюри и собирается повторить ее эксперимент и продемонстрировать ошибочность ее выводов [1034]. К тому времени, как, несомненно, было известно Жолио, его жена уже сделала следующий шаг: она попыталась отделить «актиний» от лантанового носителя и обнаружила, что разделить их невозможно. Никто не предполагал, что это вещество может и впрямь оказаться лантаном: как медленный нейтрон мог превратить уран в гораздо более легкий редкоземельный элемент, расположенный в периодической системе на целых тридцать четыре места раньше? «По-видимому, – сообщали Кюри и Савич в майском выпуске Comptes Rendus, – это вещество не может быть ничем, кроме трансуранового элемента, свойства которого совершенно отличны от свойств других известных трансуранов, но интерпретация этой гипотезы представляется весьма затруднительной» [1035].
Пока шли эти необычные дебаты, статус Мейтнер изменился. В середине февраля Адольф Гитлер вынудил молодого канцлера Австрии встретиться с ним в альпийской резиденции германского диктатора, баварском Берхтесгадене. «Как знать, – угрожающе говорил Гитлер, – быть может, в одно прекрасное утро я неожиданно появлюсь в Вене, подобно весенней грозе» [1036]. 14 марта он действительно там появился – во главе триумфального парада; за день до этого свежеиспеченный германский вермахт оккупировал столицу Австрии, объявившей себя провинцией Третьего рейха, и самый одиозный из ее уроженцев плакал от счастья. Аншлюс – аннексия Австрии – превратил Мейтнер в гражданку Германии, и к ней были теперь применимы все те уродливые антисемитские законы, которые нацистское государство начало накапливать еще в 1933 году. «Годы гитлеровского режима… были, естественно, очень гнетущими, – писала она ближе к концу своей жизни. – Но работа была мне верным другом, и я часто восхищалась, про себя и вслух, тем, как надолго работа позволяет забыть о тягостной политической ситуации» [1037]. После весенней грозы аншлюса финансирование ее работы внезапно прекратилось.
Тогда ее разыскал Макс фон Лауэ. Он слышал, что Генрих Гиммлер, руководитель СС и глава германской полиции, издал приказ, запрещающий дальнейшую эмиграцию ученых. Мейтнер боялась, что ее могут уволить из Институтов кайзера Вильгельма, и она останется без работы и без защиты [1038]. Она связалась с голландскими коллегами, в том числе с Дирком Костером, физиком, который в 1922 году, работая в Копенгагене, вместе с Дьёрдем де Хевеши открыл гафний. Голландцы убедили свое правительство разрешить Мейтнер въехать в Голландию без визы, по паспорту, который стал теперь всего лишь печальным сувениром.
К вечеру пятницы 16 июля Костер приехал в Берлин и сразу отправился в Далем, в Институт кайзера Вильгельма. Туда же явился их старый друг, издатель журнала Naturwissenschaften Пауль Розбауд, и они вместе с Ганом всю ночь помогали Мейтнер собирать вещи. «Я отдал ей прекрасное кольцо с бриллиантом, – вспоминает Ган, – оставшееся мне от матери, которое я сам никогда не носил, но бережно хранил всю жизнь; я хотел, чтобы у нее были какие-нибудь средства на случай непредвиденных затруднений» [1039].
В субботу утром Мейтнер и Костер уехали на поезде. Девять лет спустя она вспоминала это невеселое путешествие так, как будто она ехала одна:
Я села на поезд, идущий в Голландию, под предлогом недельного отпуска. На голландской границе я до смерти перепугалась, когда нацистский военный патруль из пяти человек, проходивший по вагонам, забрал мой австрийский паспорт, давно уже недействительный. Мне было так страшно, что у меня почти остановилось сердце. Я знала, что нацисты только что объявили охоту на евреев, что эта охота уже шла. Я сидела и ждала в течение десяти минут, которые показались мне десятью часами. Наконец один из нацистских чиновников вернулся и, не говоря ни слова, протянул мне мой паспорт. Две минуты спустя я была на территории Голландии, где меня встретили голландские коллеги [1040].
Там она была в безопасности. Затем она поехала в Копенгаген и остановилась там у Боров в Доме почета Карлсберга для отдыха и восстановления душевных сил. Бор устроил ее в Физический институт [1041] Академии наук Швеции, находившийся на окраине Стокгольма, в процветающую лабораторию, которой руководил Карл Манне Георг Сигбан, получивший в 1924 году Нобелевскую премию по физике за работы в области рентгеновской спектроскопии. Финансирование обеспечил Нобелевский фонд. Она отправилась в эту далекую северную ссылку, в страну, языка которой она не знала и в которой у нее почти не было друзей, как в тюрьму.
Лео Сцилард искал себе покровителя. В начале 1935 года Фредерик Линдеман обеспечил финансирование его работы в Оксфорде за счет компании ICI, и Сцилард работал там в течение некоторого времени, но его все больше беспокоила возможность войны в Европе. В конце марта 1936 года он писал в Вену Гертруде Вайс, что ей следует подумать об эмиграции в Америку; кажется, в своих рассуждениях он также имел в виду и свой собственный случай. Сцилард познакомился с Вайс в годы жизни в Берлине и в дальнейшем опекал ее и исподволь ухаживал за нею. Теперь она закончила медицинское училище. По его приглашению она приехала к нему в Оксфорд. Они гуляли по окрестностям, и она сфотографировала его [1042] на обочине дороги,