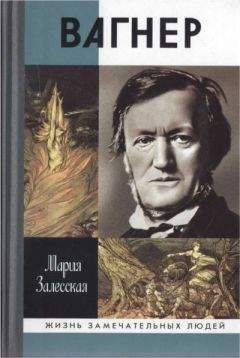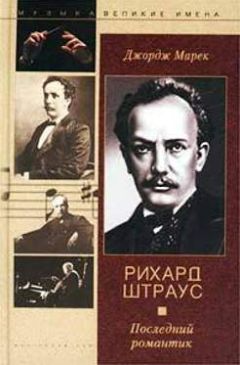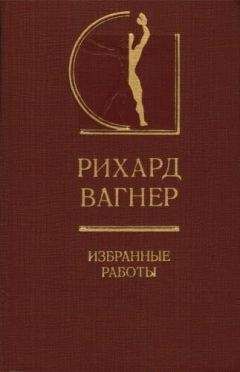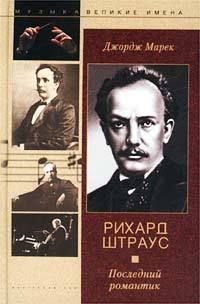Иронией проникнуто всё произведение Гейне; высоким трагизмом — произведение Вагнера. Сента — первая в ряду вагнеровских героинь-искупительниц, чья жертвенная любовь несет спасение. В «Летучем голландце» Вагнер уже вплотную подходит к идее Любви, о которой мы вскользь уже упоминали. Таким образом, можно сказать, что вагнеровский «Летучий голландец» является прямой антитезой новеллы Гейне.
Кроме того, известно, что с «Мемуарами господина фон Шнабелевопского» Вагнер познакомился еще в 1834 году. То, что «Летучий голландец» написан им спустя почти семь лет (да еще и за семь недель — поистине мистическая цифра в данном сюжете!), говорит о том, что сочинение Гейне не особенно глубоко затронуло его воображение. Гораздо сильнее на Вагнера повлияла мрачная атмосфера старинной легенды, слышанной им от рижских моряков. А то, что действие оперы перенесено в Норвегию (у Гейне события происходят в Шотландии), косвенным образом указывает на то, что при ее написании Вагнер вдохновлялся собственными переживаниями, полученными во время морского путешествия в Лондон, когда ненастье заставило корабль бросить якорь у норвежских берегов.
Итак, «Летучий голландец» — это первое сознательное обращение Вагнера к мифу, общечеловеческому универсальному сюжету, что станет краеугольным камнем в его будущей оперной реформе. «Образ Летучего голландца — это миф народной поэзии. Довременно идеальная черта человеческой природы сказалась в нем с увлекательной для сердца силой. В своем самом общем значении черта эта — сквозь бури жизни тоска о покое. В радостной эллинской атмосфере мы открываем ее в скитаниях Одиссея, в его тоске по родине, по домашнему очагу и жене… Бездомное, в данном смысле этого слова, христианство воплотило эту черту в образе „Вечного Жида“. Этому страннику, обреченному на непрерывную, бесцельную и безрадостную жизнь, не улыбалось никакое земное освобождение — его единственным стремлением было стремление к смерти… Мы встречаемся здесь (в мифе о Летучем голландце. — М. З.) с удивительной, созданной народным духом, смесью Вечного Жида с Одиссеем… Вот тот Летучий голландец, который с такой непобедимой силой очарования всё снова и снова всплывал передо мной из пучин и водоворотов моей жизни. Это была первая народная поэма, глубоко запавшая мне в душу и манившая меня как человека искусства к ее истолкованию в определенном художественном образе»[185].
Для воплощения этой идеи Вагнер написал уже не либретто, а полноценную пьесу, то есть впервые выступил как оригинальный драматург, тогда как либретто предыдущих опер создавались им по готовым литературным произведениям (К. Гоцци, У. Шекспира, Э. Бульвер-Литтона). В данном случае никакой готовой литературной основы, как мы уже видели, у Вагнера не было. Он писал: «С этой поры начинается моя карьера поэта и прекращается карьера поставщика оперных текстов»[186].
Таким образом, можно сказать, что во многом «Летучий голландец» — первая реформаторская опера Вагнера.
Возможно, именно поэтому ее премьера успеха не имела. Публика оказалась не готовой к восприятию зарождающейся новой оперной эстетики; она по-прежнему ждала зрелищных «спецэффектов», привычной демонстрации виртуозных «колоратур» и сюжета либо из «комедии положений», либо по-мейерберовски «исторически грандиозного». Ни того, ни другого, ни третьего не было в новом творении Вагнера. Да еще и певцы оказались не на высоте. Публика недоумевала: как Вагнер после блестящего «Риенци» мог предложить ей «нечто столь ненарядное, скудное и угрюмое»? Выдержав всего четыре представления, «Летучий голландец» был заменен на «Риенци», прочный успех которого позволил его создателю сделать, наконец, карьеру в Дрезденском королевском оперном театре.
Вагнеру предложили место королевского капельмейстера. Любые его сомнения были пресечены страстным желанием Минны обрести стабильность, солидность и материальное благополучие. Кроме того, вдело вмешалась Каролина фон Вебер, вдова композитора, вагнеровского кумира юности. «Подумайте, — сказала она Вагнеру, — как тяжко мне будет встретиться со временем с мужем, если мне придется сообщить ему, что дело, которому он самоотверженно отдал столько сил, заброшено именно там, где он работал… Каково мне замечать, как с каждым годом все хуже исполняются его оперы? Если вы любите Вебера, вы обязаны в память этого человека занять его должность и продолжить его дело»[187].
Второго февраля 1843 года Вагнер получил приглашение явиться в бюро управления театром, где ему был торжественно вручен королевский рескрипт, согласно которому композитор «назначался капельмейстером Его Величества с пожизненным содержанием в 1500 талеров в год». Казалось, жизнь начинает налаживаться. Но всё же страх не покидал сердце Вагнера; он боялся, что снова — как в Лаухштедте, Магдебурге, Кёнигсберге и Риге — станет заложником своей должности, окунется в рутину неизбежных закулисных интриг, будет тратить большую часть времени и энергии на выполнение официальных обязанностей в ущерб творчеству.
Но, с другой стороны, пост королевского капельмейстера как раз давал возможность осуществить серьезную реформу оперы хотя бы в одном отдельно взятом театре. А уже из Дрездена, надеялся Вагнер, новое понимание искусства распространится по всей стране. В отличие от прежних мест работы Вагнера, Дрезденский королевский оперный театр был одной из основных сцен Германии, обладал большим оркестром и пользовался значительной правительственной дотацией, что, по мнению композитора, позволяло не подлаживаться под вкусы публики, а начать воспитывать их. Вот только все эти великолепные силы застыли в косности и лености. Нужно было перевоспитать певцов, заставив их «любить не себя в искусстве, а искусство в себе», восстановить строгую дисциплину среди музыкантов, искоренить небрежность в исполнении произведений, наконец, как пишет А. Лиштанберже, «продолжать… художественное и патриотическое дело Вебера, объявив войну деморализующему влиянию французско-итальянской оперы и создав истинно национальную лирическую драму»[188]. А там уж и до универсальной музыкальной драмы недалеко!
Пожалуй, здесь уместно провести параллель с другим оперным реформатором — Михаилом Ивановичем Глинкой. Творчество Глинки глубоко национально, оно, по словам О. Е. Левашевой, «свидетельство могучего подъема национальной культуры»[189]. Характерно, что подъем именно национального культурного самосознания пришелся и в России, и в Германии на 1840-е годы. Можно сказать, что Глинка и Вагнер двигались почти параллельно по пути развития оперного жанра. При этом «русский коллега» Вагнера определил основные жанры русской оперы: народная музыкальная драма и опера-сказка, опера-былина. Впервые в истории русской музыки он применил принцип целостного симфонического развития оперной формы, полностью отказавшись от разговорного диалога (правда, в целом так и не преодолев номерную структуру); настаивал на героико-патриотической направленности и широкой эпической монументальности сюжета. Сходство интересов двух композиторов налицо. Всё вышесказанное свидетельствует о том, что вагнеровская реформа рождалась не на пустом месте, не была плодом отвлеченного умствования, как ее иногда представляют, а явилась логическим продолжением эволюции всего мирового оперного искусства. И ближе всех в этом направлении к немецкой музыке стояла музыка русская.
(Об отношении Вагнера к России и России к Вагнеру мы еще поговорим.)
Итак, коренная оперная реформа напрашивалась сама собой. и Вагнеру казалось, что на новой должности он как раз и станет тем рычагом, который поднимет и театр, и публику на новую высоту.
Заняв должность капельмейстера, Вагнер близко познакомился со вторым капельмейстером Дрезденского театра Августом Рёкелем (Röckel). Это знакомство очень быстро переросло в настоящую дружбу, которая впоследствии оказалась для Вагнера роковой. Новый знакомый Рихарда был сыном знаменитого в свое время тенора Венской оперы Йозефа Августа Рёкеля, первого исполнителя роли Флорестана в бетховенском «Фиделио», и племянником Гуммеля[190], сам сочинял музыку. Ко времени знакомства с Вагнером он написал оперу «Фаринелли», которую и принес показать новому коллеге.
Это был первый визит Рёкеля к Вагнеру, причем до этого Рёкель не слышал ничего из его произведений. Поэтому он и попросил Вагнера сыграть что-нибудь из «Риенци» или «Летучего голландца». Музыка «нового немецкого гения» произвела на Рёкеля эффект откровения. Он тут же решил навсегда порвать с сочинительством. Отныне он считал себя призванным стать верным помощником Вагнера, формировать по мере сил в широких кругах публики правильное отношение к его реформаторским идеям и, насколько это возможно, взять на себя все заботы и тяготы, связанные со служебными обязанностями в театре. Такое самоотречение трудно не оценить по достоинству. В лице Рёкеля Вагнер приобрел действительно верного и преданного друга, который, по словам самого композитора, «проявил столько несокрушимой преданности и сердечной доброты в заботах обо мне, что скоро стал для меня незаменимым другом и товарищем… и остался единственным человеком, верно оценившим характер моих отношений к окружающей среде, с ним одним я мог откровенно делиться всеми моими заботами и тревогами в полном убеждении, что он поймет меня»[191].