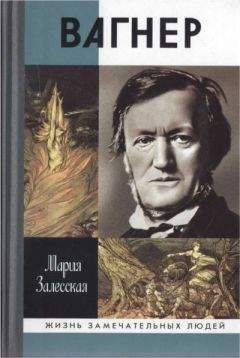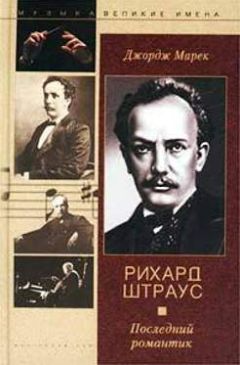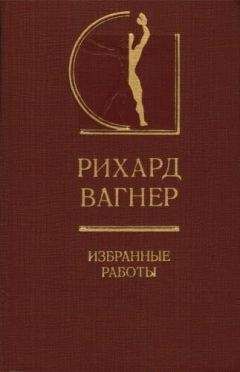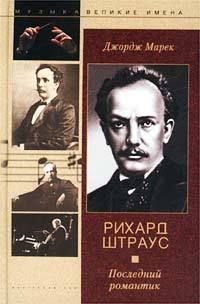Высокому меццо-сопрано Вагнер в основном поручает партии отрицательных персонажей (Венера в «Тангейзере», Ортруда в «Лоэнгрине»), а также роли второго плана, такие как подруга героини Брангена в «Тристане и Изольде» или Вальтраута в «Сумерках богов». Если певице-сопрано для исполнения вагнеровских партий необходим свободный низкий регистр, то для меццо обязателен свободный верхний регистр, часто приближающийся к сопрановому.
И при этом — повторяем! — певец или певица, обратившиеся к вагнеровскому репертуару, должны обладать немалым драматическим талантом.
Итак, Вагнер во всём стремился к идеалу: гениальное либретто, гениальная музыка, гениальные певцы и музыканты. Он признавал, что искусство уже поднималось однажды до уровня музыкальной драмы — это было искусство милой его сердцу античной Греции, древнегреческая трагедия, к лучшим идеалам которой он стремился вернуться, но на более высокой ступени развития всего искусства в целом. Напомним, что уже в ранней юности Вагнер всерьез увлекался древнегреческой трагедией и мифологией, считая их лучшим из всего, что было создано человечеством. Теперь требовалось поднять идеал на еще более высокую ступень совершенства, что Вагнер и собирался осуществить в собственном творчестве.
Из современной мифологии: обожествление Вагнера в Байройте.
Карикатура берлинской газеты «Ульк»Еще в работе «Искусство и революция» Вагнер писал: «Таковым же представлял его себе афинянин, когда все импульсы его прекрасного тела, его безудержных душевных стремлений и его неугомонной мысли побуждали его воспроизводить свою собственную сущность в идеальных образах искусства, когда голоса сливались в полнозвучном хоре, воспевавшем творения божества и дававшем импульс к полному увлечения танцу, который своими привлекательными и смелыми телодвижениями изображал эти божественные деяния; когда он возводил прекрасный свод над гармонически расположенными колоннами… Таковым же являлся прекрасный Аполлон поэту-трагику, вдохновленному Дионисом, который указывал всем родам искусства, пышным цветом расцветшим на основе прекраснейшей жизни — не по приказу, а вследствие естественной, внутренней необходимости, — на смелое, связующее всё слово, на возвышенную поэтическую цель, ради которой все граждане должны были собраться, как вокруг общего очага, чтобы создать высочайшее произведение искусства, какое только можно себе представить, — драму»[251].
Искусство, по Вагнеру, должно нравственно воздействовать на публику; основным стержнем сюжета для произведений искусства должны стать глобальные общечеловеческие философско-эстетические идеи, которые можно найти лишь в древних мифах и мистериях. Вагнер обратился в первую очередь к германскому эпосу, к своим национальным корням. Миф и мистерии, считал он, способны объединять драму человеческой личности с драмой космогонической, тем самым опять же достигая всеобщего универсализма. Ведь в мифах и мистериях обязательно наряду с древними богами, воплощающими высшее начало, выступают и герои-люди. Ни один другой сюжет никогда не будет столь всеобъемлющим.
В сентябре 1860 года Вагнер в статье «Музыка будущего» изложил свои взгляды на оперу: «…я счел необходимым в качестве идеального поэтического материала указать на мифы, на возникшее в стародавние времена безымянное народное творчество, к которому снова и снова возвращаются великие поэты культурных периодов; в мифах почти полностью исчезает условная, объяснимая только абстрактным разумом форма человеческих отношений, зато в них с неподражаемой конкретностью показано только вечно понятное, чисто человеческое; именно это и придает каждому подлинному мифу легко отличимый индивидуальный характер»[252].
С этим трудно не согласиться. В стремлении к универсальному произведению искусства будущего Вагнер искал в первую очередь универсальный сюжет. Найдя его, можно было приступать к углублению универсализации. И. И. Гарин считает, что Вагнер первым понял внутреннюю близость мифа и музыки и первым же осуществил анализ мифа музыкальными средствами: «Созданный романтиками культ музыки в руках Вагнера… станет мощным средством проникновения в сознание человека, демонстрируя единство и многообразие музыки и психологии, мотива и чувства, лейтмотива и страсти… Миф для Вагнера — узел, где поэзия, музыка и религия сплетены. Не антикварное отношение у него к мифическим данным, а именно античное… Нет, он не искал художественный идеал в далеком прошлом, он претворял жизнь в единство музыки, философии и мифа»[253].
Сама личность Вагнера, казалось бы, совмещала в себе несовместимое. Согласно А. Лиштанберже, Вагнер в своем творчестве следовал двум основным тенденциям: «языческой», или оптимистической, и «христианской», или пессимистической, высшим выражением которой исследователь считает «Парсифаля» (с пессимистической трактовкой «Парсифаля» мы позволим себе не согласиться и в соответствующей главе выскажем свой взгляд на это творение Вагнера). Подобно трагикам Древней Греции, Вагнер обращается к мифам своего народа, стараясь воссоздать их первозданный смысл и противопоставить вечные человеческие ценности бездушной власти капитала, этого «проклятого золотого божка». К Вагнеру можно применить характеристику, данную немецкому мыслителю XX века Герману Вирту: он пытался «непостижимым усилием творческой воли разбудить древние мифы „арийско-нордической изначальной культуры“ и тем самым достичь „освобождения человечества от пятен цивилизации“»[254].
Свое отношение к искусству Вагнер красноречиво определил еще в «Искусстве и революции», говоря опять же об античной Греции: «…этот народ бросал государственные собрания, суд, поля, корабли, ристалища и приходил из самых отдаленных мест, чтобы заполнить тридцать тысяч мест амфитеатра, где представлялась самая глубокая из всех трагедий — „Прометей“, чтобы постигнуть себя самого в этом величественнейшем произведении искусства, чтобы уяснить себе свою собственную деятельность, чтобы слиться возможно теснее со своей сущностью, своей коллективной душой, своим богом и стать снова в высшем и глубочайшем спокойствии тем же, чем он был несколькими часами раньше, когда был обуреваем неустанной борьбой и стремлением к крайнему проявлению своей личной индивидуальности»[255].
Вот тот идеал, на достижение которого направлена реформа Вагнера, вот характеристика того объединяющего и всеобъемлющего универсального произведения искусства будущего, к созданию которого Вагнер стремился в своем творчестве. Хотя, конечно, музыкальная драма Вагнера существенно отличается от греческой трагедии, являясь германской и по выбору сюжетов, и по философскому символизму, и по психологическому развитию внутреннего действия в ущерб внешнему. Но этот германский элемент возрастает до общечеловеческого, если принять во внимание не внешнюю оболочку мифа, а его внутреннюю, космогоническую составляющую. Повторяем, согласно Вагнеру, именно мифологический эпический сюжет делает произведение наднациональным.
И всё же стремление к всеобъемлющей и объединяющей силе искусства было для Вагнера, пусть даже и бессознательно, в первую очередь проявлением его германского духа. Только через подъем родного искусства можно идти к подъему искусства всеобщего. Ведь во времена Вагнера, вплоть до 1871 года, когда после Франко-прусской войны Германия была, наконец, объединена в империю, не существовало понятия «единая Германия». Конечно, Вагнер в целом далек от идей пангерманизма, а также Фёлькише бевегунг[256]. Его в первую очередь беспокоило двойственное положение немецких музыкантов, которые из-за раздробленности страны вынуждены были искать признания исключительно за пределами своего отечества. Вагнер писал в работе «О сущности немецкой музыки»: «Отечество немца разделено на изрядное количество королевств, курфюршеств, герцогств и свободных имперских городов; предположим, что наш немец проживает в одном из городов некоего герцогства: добиваться славы в родном городе ему и в голову не придет, ибо там вовсе нет никакой публики; итак, если он обладает честолюбием или просто вынужден зарабатывать музыкой себе на хлеб, он отправится в резиденцию своего герцога, но в крохотной резиденции уже есть немало порядочных музыкантов — пробиться там ему будет до крайности трудно; в конце концов он всё же пробьется, музыка его будет иметь успех, но разве хоть одна душа услышит о нем в соседнем герцогстве? Как же ему хотя бы приблизиться к тому, чтобы завоевать известность во всей Германии? И всё же он делает такую попытку, но тут его настигает старость, он умирает, и его погребают на кладбище, и никто более в целом мире о нем не вспоминает… Оперный сочинитель вынужден прежде всего изучать итальянскую манеру пения, а для постановки своих произведений подыскивать заграничные подмостки, ибо в Германии он не найдет сцены, с которой мог бы представить свое творение. Относительно последнего пункта можно утверждать: композитор, чьи произведения исполняются в Берлине, уже в силу этого никому не известен ни в Мюнхене, ни в Вене; только из-за рубежа ему может посчастливиться воздействовать на всю Германию в целом»[257].