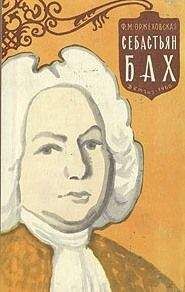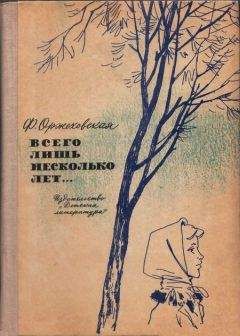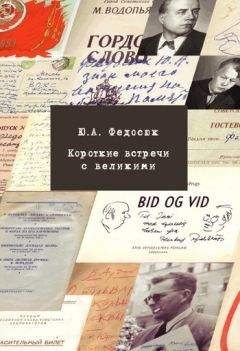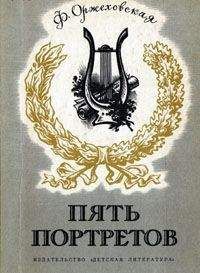— Теперь можешь застрелиться! — напомнил Артур среди общего веселья.
Я не раз спрашивал Шумана, отчего он не потребует свою долю наследства. Ведь ему уже исполнился двадцать один год.
— Я ничего не могу брать оттуда, — отвечал он, — ведь я нарушил родительскую волю.
— Не родительскую, а материнскую, — возражал я, — а капитал отцовский.
— Это все равно.
— Нет, не все равно. Отец как раз желал, чтобы ты стал музыкантом. Разве что в завещании об этом не упомянул.
— Нет, Гарри, нет! Это было бы ужасно…
— Для кого?
— Ты же знаешь.
Мысль о слабом здоровье матери постоянно сковывала его, да и она частенько напоминала об этом.
— Ну, а как только она согласится и даст мне свободу, я не стану отказываться от денег.
— А если не согласится?
— Ну… тогда я стану жить, как Шуберт. И отвечать сам за себя.
Мы уже знали, как тяжко приходилось Шуберту.
К счастью, все обошлось. И больше мы не вели подобных разговоров. Но я знал, что при других обстоятельствах Роберт пошел бы по своему «Зимнему пути» [10].
Теперь Шуман сделался пансионером фрау Вик. Ему был отведен уединенный флигелек во дворе. Но он проводил много времени в доме профессора, разделяя наши трапезы и часто оставаясь у нас по вечерам. В Гевандхауз мы также отправлялись все вместе.
В ту пору мы увлекались программной музыкой — этим смелым завоеванием романтизма. Кое-кто из музыкантов старшего поколения отвергал ее. Вик тоже говорил нам: незачем объяснять музыку словами или другими аналогиями. Это навязывает такие впечатления, которые не возникли бы сами по себе, без объяснений. Но я не соглашался с этим. Почему бы стиху или рисунку не предшествовать музыкальному произведению и не направить нашу мысль по определенному руслу? Что дурного в предварительном объяснении? Ведь и само название уже определяет характер пьесы.
Значит ли это, что музыка целиком подчинена программе? Вовсе нет — музыка всегда шире, глубже, разностороннее. Но программа помогает нам понять содержание, замысел. Конечно, произвольные толкования недопустимы. Но если сам композитор открывает нам свои мысли, то, право же, мы можем ему поверить! «Прялка», «Весна», «Песня венецианского гондольера»[11] — разве это не канва для узоров, которые мы вышьем сами?
Кроме того, я уверен, что программная музыка развивает наш ум. Гёте не мог рассказать о своем Эгмонте так полно, как это сделал Бетховен. Музыка дополняет трагедию Гёте. Стало быть, мы узнаём новое.
Мы часто собирались у Шумана, в его флигельке. Клара и ее братья-подростки любили музыкальные импровизации Шумана и не менее — его рассказы и сказки. Нас удивляла его память: он знал наизусть много стихотворений и баллад.
Я помню, как он рассказывал нам о своих «Бабочках»[12]. Он говорил главным образом для детей: Клары и ее братьев. Но и мне было любопытно узнать о приключениях, вернее, о переживаниях его героев.
«Бабочки» были навеяны романом Жан-Поля «Озорные годы». Жан-Поль был в то время нашим кумиром. После двадцати лет молодежь обычно охладевает к этому писателю. Теперь мне даже непонятно, чем он так привлекал нас. Гофман, по-моему, гораздо глубже и занимательнее. Но у Жан-Поля были свои выдумки и тайны, притягательные именно для молодых.
Роман «Озорные годы» невероятно сумбурен. Шуман заимствовал оттуда лишь один эпизод: два брата-близнеца Вальт и Вульт, во многом разные, но добрые, благородные натуры, влюбляются в одну и ту же девушку, Мальвину Заблоцкую, дочь какого-то польского генерала. Судьба братьев решается на ближайшем балу.
Вот начинается бал, танцы, веселье молодежи. Самые причудливые маски; среди них даже сапог, который сам себя носит, то есть человек внутри огромного сапога. Эта выразительная сценка (в октавах) очень забавляла детей. Неуклюжими прыжками они пытались изобразить шествие громадного сапога.
«Бабочки» построены приблизительно так же, как и «Абегг». Но я не назвал бы их вариациями в строгом смысле, скорее, сценами с общим сюжетом. Здесь бал и все, что происходит на балу. Это как бы прообраз будущего «Карнавала».
Разумеется, без объяснений Шумана никто и не догадался бы о переживаниях братьев-соперников — только ощущение бала охватывало нас сразу. Но грустные, тревожные чувства, возникающие среди веселья и счастья, — я угадывал их, проникался ими. Да, тут кто-то страдал: резкие контрасты заставляли меня прислушиваться к музыке с невольным беспокойством.
И когда Шуман познакомил нас со своими героями, мне показалось, что именно этих объяснений я и ожидал.
Суть сводится к тому, что угрюмый Вульт не знает, кого из братьев предпочла Мальвина, и, чтобы узнать правду, он предлагает брату обменяться домино. Жизнерадостный Вальт соглашается — на маскараде возможны любые выдумки.
— Только ненадолго, — говорит он.
А Вульт приближается к Мальвине, которая не узнает его, принимает за Вальта. И между ними происходит следующий разговор:
— Что случилось, милый Вальт? Зачем он тебя позвал?
— Он уезжает сегодня ночью.
— Сегодня? Вот хорошо!
Резкий удар. Пауза. Что ж, теперь все ясно.
— Не сердись, милый. Я знаю, что ты любишь своего брата, но я не могу привыкнуть к нему. Он такой странный. И потом, мне кажется…
— Что тебе кажется? Может быть, то, что он тебя любит?
— Раз ты сам заметил… Да. Вот почему я рада, что он уезжает… Ты стал грустным. У тебя холодная рука.
Вульт ничего не сказал на это.
— Для него же будет лучше, — убеждает Вина, — если он уедет. А когда он возвратится…
Вульт молчит.
— … то я приму его, как сестра. А теперь я даже и этого не могу.
Ну, вот и узнал. Вульт в ту же ночь собрался в дальний путь и перед тем написал брату: «Прощай, Готтвальт! Желаю тебе счастья!» Или что-нибудь в этом роде.
Шуман играл эти прощальные сцены. Дети притихли. Альвин, старший брат Клары, спросил:
— А в музыке есть этот разговор?
— А ты как думаешь?
— Вероятно, есть.
— Нет, — сказала Клара.
Да, дело не в разговоре, а в чувствах. Я совершенно ясно представил себе Вульта, который вышел на улицу. Тяжелая дверь захлопнулась за ним, ветер рванулся навстречу.
Так разлетаются, как бабочки, мечты поэта…
Рассвет еще не наступил, хотя часы пробили шесть[13]. Танцующие тени в освещенных окнах, музыка, доносившаяся из замка, — все напоминало о целой полосе жизни, о поре, уже пройденной. Но она была дорога Вульту.
Он удалялся и вскоре исчез во мгле. «Сильный человек не нуждается в жалости, — думал я, внимая удаляющейся музыке. — К тому же у него есть его флейта. Да и все эти танцы, пары, веселье, даже эта белокурая Вина, с её глазами, как бусинки, — что это все перед заманчивой дорогой будущего?»
Глава шестая. Флорестан и Евсебий
Я, кажется, уже говорил, что «Бабочки» были предвосхищением «Карнавала» — этой редкой по остроумию и любимейшей пьесы Шумана. В такой же степени образы близнецов Вальта и Вульта являются предшественниками Флорестана и Евсебия — главных героев «Карнавала».
Кто же они такие? Откуда они взялись?
Вначале это была игра. В детстве Шуман придумал для себя брата-близнеца. Его собственные братья Эдуард и Юлий были старше, а ему хотелось играть с братом-ровесником.
Воображаемый близнец был, «вопреки природе», совсем не похож на Роберта — ни наружностью, ни характером. Соль выдумки была именно в этом несходстве, которое, однако, не нарушало дружбу братьев.
Затем в игре появились изменения: брата-близнеца заменил ровесник-друг.
Мы знаем, как часто детские игры продолжают пленять нас и в зрелом возрасте. Это произошло и с Робертом, чему немало способствовали прочитанные книги. У писателей-романтиков на каждом шагу встречались то друзья-враги, то братья-соперники, то просто двойники, которых путали окружающие и даже родные матери, не говоря уже о невестах. Нашумевший роман «Эликсир дьявола»[14] был весь посвящен недоразумениям, происходившим из-за двойников — Ансельма и Викторина, из-за их губительного сходства. Но если гофмановские герои — это воплощение добра и зла, то Флорестан и Евсебий, каждый по своему, чудеснейшие парни. В них как бы олицетворен сам Шуман, резко противоположные черты его характера.
Если представить себе мысленно, и весьма условно, этих выдуманных молодых людей (я исхожу из музыки Шумана, а также из его немногих словесных объяснений), то можно убедиться, что Флорестан — энергичный малый, пылкий, увлекающийся, борец по натуре, а Евсебий, напротив, — мягкий, мечтательный, даже застенчивый. Борясь за свою идею, Флорестан стремится быть услышанным всеми, а его замкнутый друг предпочитает уединение; ему достаточно поведать свои мысли одному Флорестану.
Евсебий — лирик и однолюб; для него невозможны многократные увлечения девушками, которых он встречает на своем пути. Он верит в Бессмертную возлюбленную[15] Бетховена. Все увлечения Флорестана он отвергает и, выслушав его признания, говорит: «Это еще только Розалинда, но не Джульетта»[16].