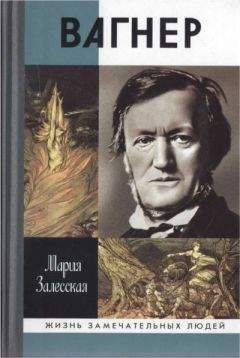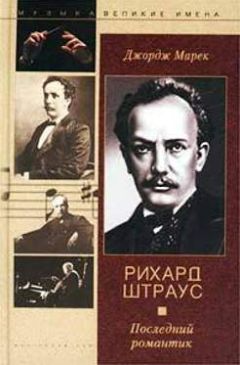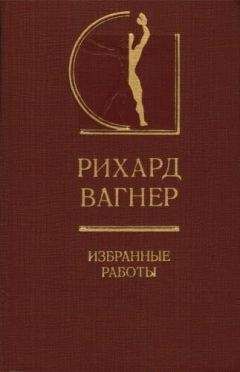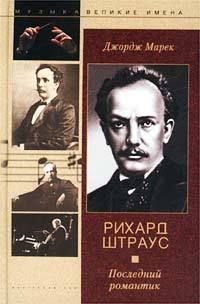Маркс: «Эмансипация евреев в ее конечном значении есть эмансипация человечества от еврейства (Маркс имеет в виду эмансипацию человечества от торгашества. В немецком языке слово Jude — „еврей“, „иудей“ — имеет второе значение — „ростовщик“, „торгаш“. Не исключено, что и у Вагнера также есть подобное слияние понятий; филологический анализ его работ с этой точки зрения никто не проводил, а его отношение к золотому тельцу сомнений не вызывает. — М. З.)… Еврей уже эмансипировал себя еврейским способом, он эмансипировал себя не только тем, что присвоил себе денежную власть, но и тем, что через него и помимо него деньги стали мировой властью, а практический дух еврейства стал практическим духом христианских народов. Евреи настолько эмансипировали себя, насколько христиане стали евреями… Противоречие между политической властью еврея на практике и его политическими правами есть противоречие между политической и денежной властью вообще. В то время как по идее политическая власть возвышается над денежной властью, на деле она стала ее рабыней… Деньги — это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги — это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир — как человеческий мир, так и природу — их собственной стоимости. Деньги — это отчужденная от человека сущность его труда, его бытия; и эта сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей. Бог евреев сделался мирским, стал мировым богом. Вексель — это действительный бог еврея».
Вагнер: «Весь тот труд, который сильным и богатым людям римского и средневекового времени приносил закрепощенный человек, сам переживая стеснения и бедствия — всё это в наши дни еврей перевел на деньги: в самом деле, кто рассмотрит на бумажках, с виду невинных, что они обагрены кровью бесчисленных рабов? И всё то, что герои искусства с бесконечными усилиями, пожравшими не только их энергию, но и самую жизнь, отвоевали от враждебных искусству темных сил за два злосчастных тысячелетия, — всё это евреи обратили в предмет торговли художественными произведениями».
Маркс: «Воззрение на природу, складывающееся при господстве частной собственности и денег, есть действительное презрение к природе, практическое принижение ее; природа хотя и существует в еврейской религии, но лишь в воображении… То, что в еврейской религии содержится в абстрактном виде, — презрение к теории, искусству, истории, презрение к человеку как самоцели, — это является действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его добродетелью. Даже отношения, связанные с продолжением рода, взаимоотношения мужчины и женщины и т. д. становятся предметом торговли! Женщина здесь — предмет купли-продажи».
Вагнер: «Иллюстрируя всё вышесказанное, мы остановимся на произведениях одного еврейского композитора, который природою был одарен таким специфическим талантом, как немногие обладали до него… всё усиливается до полного трагического конфликта в характере, жизни и творчестве рано умершего Феликса Мендельсона-Бартольди. Он доказал нам, что еврей может иметь богатейший специфический талант, может иметь утонченное и разностороннее образование, доведенное до совершенства, тончайшее чувство чести и все-таки, несмотря на все эти преимущества, он не в состоянии произвести на нас того захватывающего душу и сердце впечатления, которого мы ожидаем от искусства, которое мы всегда испытывали, лишь только кто-нибудь из представителей нашего искусства обращался к нам, чтобы говорить с нами… И сам Мендельсон чувствует те пределы, за которыми для него прекращается уже творческая, производительная способность… При этом следует принять во внимание, что композитор взял себе за образец нашего старого мастера — Баха, формами которого он пользовался взамен собственного, неспособного к выразительности, языка (Вагнер не может простить Мендельсону его классицизма. Это и понятно: по его мнению, форма не может господствовать над содержанием. — М. З.)… Непонятно-бессмысленная путаница прихотливого музыкального вкуса нашего времени состоит в том, что мы одновременно прислушиваемся к языку Баха и Бетховена и толкуем их, как будто они отличаются друг от друга только формами творчества и индивидуальностью, не замечая их действительного культурно-исторического различия. Причина тому легко понятна: языком Бетховена может говорить лишь искренний, задушевный человек, потому что это был язык законченного музыкального человека. Бетховен, в силу непреодолимого стремления в поисках за абсолютной музыкой, область которой он измерил и наполнил до крайних границ, указал нам путь оплодотворения всех искусств музыкою как единственное успешное расширение ее сферы. А языку Баха искусный композитор может легко подражать, хотя бы и не подражая самому Баху. Это происходит оттого, что в творчества Баха формальные элементы преобладают над индивидуальным содержанием, которое в то время занимало далеко не господствующее положение… В то время как последний в цепи наших истинных музыкальных героев, Бетховен, добивался с величайшим желанием и чудодейственной мощью наиболее полного выражения невыразимого содержания при помощи ярко очерченной пластической формы своих музыкальных картин, Мендельсон только растирает в своих произведениях эти полученные образы в расплывчатую, фантастическую тень… Только там, где давящее чувство этой неспособности, кажется, овладевает Мендельсоном и заставляет его выражать нежное и грустное смирение, композитор субъективно показывает нам себя, мы видим его утонченную индивидуальность, которая сознается в своем бессилии в борьбе с невозможным. Это и есть, как мы уже говорили, трагическая черта в личности Мендельсона; и если мы желали бы в области искусства одарить нашим участием чисто личность, то мы не посмели бы отказать в этом участии Мендельсону, несмотря на то, что этот трагизм, скорее всего, был как бы его принадлежностью, но не мучительным, просветляющим чувством».
(Напоминаем, что Мендельсон и Вагнер занимали противоположные позиции в лагере романтиков; и вместе с тем в своей статье Вагнер находит в себе силы быть максимально объективным — настолько, насколько он вообще способен быть объективным по отношению к идейному противнику. Чтобы доказать это, мы и позволили здесь столь пространную цитату.)
Маркс: «Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека. Беспочвенный закон еврея есть лишь религиозная карикатура на беспочвенную мораль и право вообще, на формальные лишь ритуалы, которыми окружает себя мир своекорыстия… Еврейство не могло создать никакого нового мира; оно могло лишь вовлекать в круг своей деятельности новые, образующиеся миры и мировые отношения, потому что практическая потребность, рассудком которой является своекорыстие, ведет себя пассивно и не может произвольно расширяться; она расширяется лишь в результате дальнейшего развития общественных условий».
Вагнер: «Публику нашей современной оперы уже в течение довольно продолжительного времени шаг за шагом совсем отучили от требований, которые должны были быть предъявляемы не то что к драматическим художественным произведениям, но вообще к произведениям хорошего вкуса. Помещения этих мест для развлечения наполняются большею частью только той частью нашего среднего общества, у которого единственною причиною для разнообразных намерений служит скука; но болезнь скуки нельзя лечить художественными наслаждениями, потому что она не может быть намеренно рассеяна, но только лишь затуманена иной формой скуки. Заботу о таком обмане тот знаменитый оперный композитор (Мейербер. — М. З.) поставил себе художественной задачей жизни… Он позаботился также и о том, чтобы использовать возможность драматических потрясений и чувственных катастроф, чего так настойчиво ожидают скучающие; и если вникнуть в причины его успеха, то не будет ничего удивительного в том, что он легко достигает цели… Этот обманывающий композитор заходит даже так далеко, что обманывает сам себя и, может быть, так же ненамеренно, как он обманывает своих скучающих слушателей. Мы искренно верим, что он хотел бы создавать художественные произведения, и в то же время знает, что он не в состоянии их создать; чтобы выпутаться из этого неприятного конфликта между желанием и делом, он пишет оперы для Парижа и легко соглашается на их постановку во всех других городах. В нынешнее время — это вернейший способ создать себе художественную славу, не будучи художником».