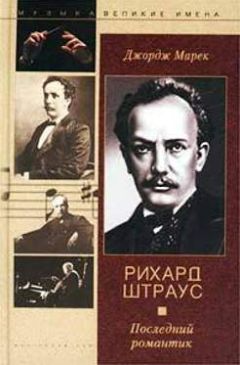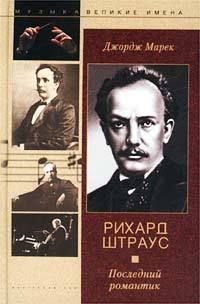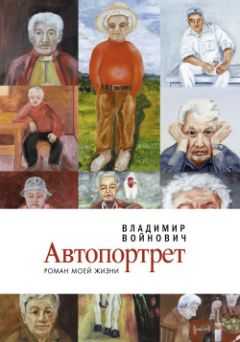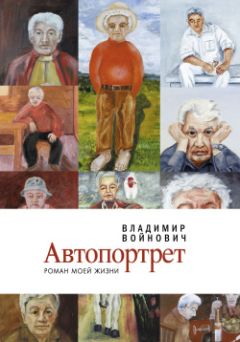В 1914 году Штраусу исполнилось пятьдесят лет. По случаю юбилея на него посыпались награды и почести. Одна из улиц в Мюнхене была названа его именем; Оксфордский университет присудил ему почетное звание, которого до этого удостоился только Гайдн. Как бывает с людьми, на долю которых выпал успех, в пятьдесят лет Штраус выглядел лучше, чем в тридцать. Его фигура дышала достоинством, у него были ясные голубые глаза, взгляд которых иногда уходил в себя, иногда впивался в собеседника, лицо было очень бледным, огромный выпуклый лоб стал еще выше от залысин, волнистые волосы начинали седеть. Он одевался очень строго — темный костюм и неброский галстук, — всем своим видом опровергая подозрение в принадлежности к богеме. Скорее он был похож на посла. Говорил он тоже голосом дипломата, на мягком сочном диалекте Баварии. У него была упругая походка, которую он культивировал сознательно. Выражение лица было всегда спокойным, хотя бывали моменты — не часто, — когда он терял свой умиротворенный вид и впадал в ярость. Тогда его всего трясло, и бледное лицо краснело, но он остывал так же быстро, как и взрывался.
Этот человек средних лет в то время сочинял первый акт оперы, которую он иногда называл «главной оперой своей жизни», а иногда — «детищем печали», о которой он иногда говорил, что она «не свободна от нервного преувеличения», а иногда — что это — «прекрасная аллегория». Все эти суждения, однако, он высказывал уже позже, после того, как опера была написана. Но, даже ставя на бумагу нотные знаки, он колебался между уважением — к церемониальной серьезности текста — и томительными сомнениями: не слишком ли его труд проникнут литературным мистицизмом. Время, потраченное на сочинение «Женщины без тени», — более трех лет (по сравнению с семнадцатью месяцами, ушедшими на «Кавалера роз») — дает возможность судить о том, какая в нем происходила внутренняя борьба.
Задержка эта объяснялась частично тем, что Гофмансталь был занят другой работой и с ним было трудно поддерживать связь, частично решением Штрауса вернуться к оркестровой музыке и сочинить «Альпийскую симфонию», а также переработать «Ариадну». Тем не менее, зная, как быстро работал Штраус, когда он был в ударе, невольно делаешь вывод, что с «Женщиной без тени» он шел на ощупь и испытывал большие затруднения.
Когда началась война, первый акт еще не был закончен. Через день или два Штраус узнал, что Гофмансталь уехал из Вены и пошел служить в армию. Штраус был «чрезвычайно встревожен». Разве Гофмансталю обязательно участвовать в военных действиях? «Все-таки поэтов можно было бы оставить дома. У нас и так хватает пушечного мяса: критики, режиссеры, руководствующиеся своим особым мнением, актеры, играющие Мольера, и т. д.»[240] Это Штраус написал жене Гофмансталя, умоляя сообщить, где находится ее муж и не грозит ли ему опасность. Дальше он написал: «Я абсолютно убежден, что никакой мировой войны не будет, что эта драчка с Сербией скоро закончится и что я получу третий акт своей «Женщины без тени». Черт бы побрал этих сербов!»
Когда Штраус убедился, что войны все-таки не избежать, сначала он поддался общему воинственному куражу. Да как он мог ему не поддаться, когда в «Жизни героя» так громко звучат фанфары? Закончив черновик первого акта «Женщины без тени», он написал на рукописи: «Закончено 20 августа 1914 года, в день победы под Саарбургом. Слава нашим отважным воинам, слава нашей родной Германии!»
Через три недели он снова написал Герти Гофмансталь, выражая радость по поводу того, что ее муж получил назначение в безопасное место. (Гофмансталя использовали в качестве военного корреспондента и пропагандиста.) Он пишет ей, что в первые дни войны его охватила депрессия. Но с фронта приходят такие добрые вести, Германия одерживает одну победу за другой, и он уже справился с депрессией и окунулся в работу. Он даже шутил: «Гуго не имеет права погибнуть за отечество, пока не прислал мне третий акт, который наверняка прославит его больше, чем хвалебный некролог в «Нойе Дойче прессе». Однако хватит шутить: мы живем в славное время, оба наши народа ведут себя геройски; мне даже стыдно за пренебрежительный тон, в котором я отзывался о смелой и могучей немецкой нации. Какое охватывает воодушевление при мысли, что нашу страну и наш народ… ждет возвышение, что они должны и способны взять на себя руководство Европой».[241]
Но война затягивалась, работа у Штрауса шла не так гладко, как хотелось бы, и его воодушевление пошло на спад. Из некоторых его высказываний можно было заключить, что войну затеяли, чтобы навредить лично ему, лишив его контакта с либреттистом и возможности присутствовать на исполнении своих сочинений за границей. Потом он опять впадал в патриотизм и пережевывал пропагандистскую жвачку о превосходстве немецкой нации, о том, что немцы благороднее и мужественнее всех прочих народов. Затем эта убежденность рассеивалась под напором сомнений. Он писал Гофмансталю: «От всех неприятностей, которые принесла война, — за исключением блестящих побед наших войск — единственным спасением является работа. Иначе можно было бы сойти с ума от бездарных действий наших дипломатов, от телеграммы с извинениями, которую кайзер направил Вильсону, и от прочих недостойных поступков, совершаемых на каждом шагу. А как поступают с артистами? Кайзер урезал зарплату труппе Придворного театра, герцогиня Мейнингенская выкинула на улицу свой оркестр, Рейнхардт ставит Шекспира, в репетуаре Франкфуртского театра — «Кармен», «Миньон», «Сказки Гофмана», — кому по силам понять нашу немецкую нацию, эту смесь посредственности и гениальности, героизма и раболепия?»[242]
Подумать только, что человек, считавший себя «интернациональным артистом», мог возражать против Шекспира и Бизе по той лишь причине, что они родились в странах, ведущих с Германией войну. (Впрочем, здесь Штраус проявлял не большее скудоумие, чем представители другой стороны, которые бойкотировали немецкие оперы.)
В том же письме он пишет: «Мы, без сомнения, победим, но после этого наворотим бог знает что». Зимой 1914/15 года, узнав, что Гофмансталь болен, что его убивает зрелище умирающей Австрии, он написал поэту: «Неужели дела обстоят так ужасно? Не лучше ли сохранять надежду, что культурная Германия спасет Австрию и поведет ее к новому лучезарному будущему? Что касается остальных, пусть катятся туда, где им и место, — в варварскую Азию».[243] Штраус еще не утратил веры в улучшение человеческой природы. Может быть, это случится с крахом христианства. Он продолжает: «Слуга моей сестры написал с фронта: «Уважаемая госпожа, как мне все опостылело!» Я вполне разделяю его чувства. Но кто может предвидеть конец? Неужели мы больше никогда не увидим Лувра или Национальной галереи? И Италии? Предполагается, что в апреле я поеду в Рим, где недавно с большим успехом прошла «Жизнь героя», и буду дирижировать на двух концертах. Пока еще их не отменили…»
Хотя он непрерывно колебался между положительным и отрицательным отношением к войне, хотя его патриотизм временами сменялся недоумением, Штраус ни разу не испытал чувства вины, не признал, что, как немец, он отвечает за зверства, совершаемые немецкими солдатами, что он скорбит о невинных жертвах, что он понимает, что германская агрессия превратила людей в зарывшихся в окопы земляных червей. Он, конечно, знал о Пангерманской лиге, могучей организации националистов, проповедовавших ненависть к демократии, евреям и социалистам. Он, конечно, был знаком с двумя манифестами (1915), в которых четко определялись цели, преследуемые Германией в войне.
В одном из этих манифестов шесть наиболее могучих ассоциаций немецкого делового мира требовали полной аннексии Бельгии, оккупации части французского побережья вплоть до реки Соммы, захвата железорудных шахт в Лонгви и Брие и угольных шахт в нескольких французских департаментах. Для равновесия, вдобавок к укреплению промышленной мощи, планировалось «присоединение эквивалентных сельскохозяйственных территорий на востоке».
Второй манифест, даже превосходивший первый в своих требованиях, был подписан профессорами университетов и государственными служащими. Они рекомендовали предъявить противнику максимально жесткие требования. Францию следовало подчинить беспощадному политическому и экономическому контролю и заставить платить наибольшую возможную контрибуцию. Аннексии Бельгии требовало «безупречное представление о чести». Для Англии, «этой нации лавочников», никакие требования репараций не будут слишком высокими. Россия должна вернуть земли, экспроприированные у их прежних владельцев. Манифест украшали и другие, не менее красочные фантазии.[244]
В начале 1915 года Англия оказалась в глубочайшем военном и экономическом провале. Ее армия была смехотворно плохо обучена, армейское руководство бездарно, потери живой силы фантастически высоки. В том самом месяце, когда Штраус написал вышеупомянутое письмо Гофмансталю, Руперт Брук писал Джону Дринквотеру: «Приезжай сюда умирать — вот повеселимся!»