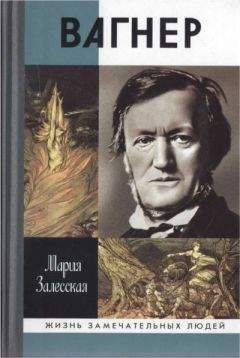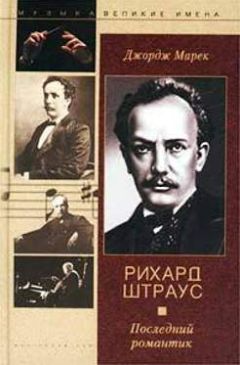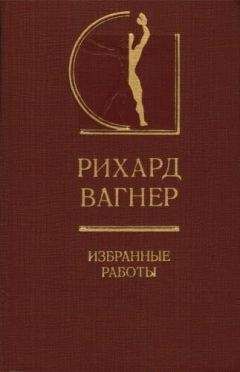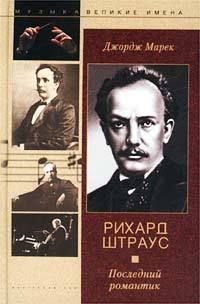1830 год стал своеобразной «генеральной репетицией» перед баррикадами 1848-го. «Напряженное ожидание революции было чересчур сильно: нужна была какая-нибудь жертва, чтобы дать этому напряжению разрядиться. Внезапно раздался клич: идти на одну из пользующихся дурной славой улиц, чтобы учинить народный суд над ненавистным членом магистрата, укрывшимся, по всеобщему мнению, в одном из домов терпимости. Когда я вместе с толпой прибыл на место, я нашел разгромленный дом, внутри которого толпа продолжала производить всякого рода насилия и бесчинства. С ужасом вспоминаю то опьяняющее действие, которая производила на окружающих эта бессмысленная, неистовая ярость толпы, и не могу отрицать, что и сам, без малейшего личного повода, принял участие в общем разгроме и, как одержимый, в бешенстве уничтожал мебель и бил посуду. Правда, всему этому предшествовал поступок со стороны члена магистрата, оскорбивший народную нравственность, но не думаю, чтобы сам по себе этот факт, послуживший как бы поводом ко всем эксцессам, сыграл какую-нибудь роль (курсив наш. — М. З.). Напротив, меня, как сумасшедшего, закружило в общем вихре чисто демоническое начало, овладевающее в таких случаях яростью толпы… Едва раздался призыв идти в другое подобное же место, как и я уже мчался со всей толпой в противоположный конец города. Там производились те же геройские подвиги, шел тот же нелепый разгром»[49].
Вагнер очень точно передает в этих строках психологию толпы во время стихийных уличных беспорядков. Как видим, никаких «высоких идей», двигающих каждым в отдельности человеком, в подобных случаях не наблюдается. Налицо своеобразный массовый психоз — необузданная, часто необоснованная и беспричинная ярость, стихийность, тем более что большинство принимающих участие в таких «революциях» — молодежь с ее максимализмом, природной агрессией, отсутствием рассудительности, взвешенности и способности критически анализировать свои поступки, свойственных более зрелому возрасту. К Вагнеру сказанное относится в полной мере.
Конечно, можно возразить, что свои мемуары композитор как раз и писал спустя многие годы после тех событий и смотрел на них с высоты опыта прожитых лет. Но нам кажется, что в данном случае собственные тогдашние чувства и настроение Вагнер передал максимально точно. Именно бессознательное желание дать выход сильному эмоциональному напряжению и безотчетное стремление изменить несовершенный мир к лучшему привели юношу на его первые «баррикады», а вовсе не абстрактные политические идеи, каковых у него тогда еще просто не было.
Несмотря на «революционную» встряску, желание попасть в университет не покидало Рихарда. Осенью он всё же поступил в школу Святого Фомы, однако и здесь не встретил среди учителей взаимопонимания. Вагнер не выдержал: он объявил родным, что твердо намерен поступить в университет в качестве Studiosus musicae (студента музыки), а по существующим тогда правилам им можно было стать, не окончив курс среднего образования. Перед пасхальными каникулами Рихард обратился напрямую к ректору Лейпцигского университета с просьбой зачислить его в качестве студента музыки и получил согласие.
Вагнер со всей страстью отдался бесшабашной студенческой жизни, но не оставил и свою композиторскую деятельность, результатом которой явились увертюра C-dur, соната в четыре руки B-dur и, что особенно важно — увертюра B-dur («с литаврами»), по его собственным словам, составившая эпоху в его жизни: «Особенно ясно я старался подчеркнуть в этой вещи мистическую роль оркестра: я разбил его на три мира, на три различных, друг с другом борющихся элемента»[50]. Для наглядности он даже хотел при написании партитуры воспользоваться чернилами различных цветов: партии медных должны были быть написаны черными чернилами, струнных — красными, а деревянных духовых — зелеными; но зеленых чернил достать не удалось, и этот замысел пришлось оставить. Внутренний же философский смысл произведения был воплощен Вагнером в музыке также весьма своеобразно: после аллегро четырехтактной основной темы вводился отдельный пятый такт, выделявшийся на своей второй четверти ударом литавр, который разрушал всю музыкальную канву.
Сейчас можно догадываться, что за этим крылась попытка воплотить удары злого рока, разрушающие гармонию мира, сродни бетховенской «судьбе, стучащейся в дверь» в Пятой симфонии. В данной увертюре Вагнер впервые выступает в качестве композитора-новатора. Вернее, пытается выступить. Его мастерства еще явно недостаточно для реформирования музыкального искусства. Инстинктивное желание «изменить мир к лучшему» сыграло с ним злую шутку. Этот опыт был чем-то сродни его участию в «революции», описанному выше. Тогда «борьба за свободу» выродилась в погром дома терпимости; теперь — новаторство в искусстве ограничилось использованием разноцветных чернил и «разрушением» мелодии с помощью ударов литавр. Но недооценивать этот отрицательный опыт в становлении Вагнера как композитора всё же не стоит.
Готовую партитуру Вагнер предложил для рассмотрения Генриху Дорну[51], музикдиректору[52] Лейпцигского театра. Будучи опытным музыкантом, Дорн не мог не видеть явных недостатков в произведении молодого композитора, однако принял его увертюру к исполнению на благотворительном концерте в пользу бедных, проходившем в сочельник и обычно мало привлекавшем публику. Как знать, возможно, Дорн хотел просто зло подшутить над дилетантом, возомнившим себя композитором? Как бы там ни было, но «первое вступление на арену музыки» стало для Вагнера настоящим ударом. Он, всегда очень болезненно воспринимавший критику, пережил первый в своей жизни провал: «Увертюра началась. После того как „черные“ медные инструменты провели свою полную выражения тему, вступила „красная“ тема (Allegro), которая, как я уже говорил, на каждом пятом такте прерывалась ударом литавр из другого „черного“ мира. Какое впечатление произвело на публику дальнейшее вступление „зеленого“ мотива духовых инструментов и затем сочетание всех трех тем, „черной“, „красной“ и „зеленой“, осталось для меня неясным. Фатальные удары литавр, выполняемые с особенной, злобной резкостью, привели меня в такое возбужденное состояние, что я совершенно растерялся. В публике правильное и частое повторение этого эффекта вызвало сначала удивление, а затем и взрыв веселых чувств. Я слышал, как мои соседи высчитывали наперед появление ударов и предсказывали их. А я, знавший верность их подсчетов, страдал от этого невыносимо. Я потерял сознание… Я не слышал никаких выражений неудовольствия, ни шиканья, ни порицаний, не было даже смеха — было только всеобщее величайшее удивление перед чем-то необыкновенно странным»[53].
Провал увертюры послужил последним толчком к осознанию Вагнером необходимости покончить с дилетантизмом и приобрести настоящий профессионализм. Тем более что он уже начал делать наброски к гётевскому «Фаусту». Рихард стал брать уроки теории музыки у Теодора Вайнлиха (Weinlich), кантора церкви Святого Фомы, в которой его крестили. Своеобразный круг от момента крещения до осознания себя как личности для Вагнера замкнулся. И опять где-то на небесах молодого композитора благословляет великий Бах…
В течение шести месяцев Вагнер прилежно занимался у Вайнлиха, изучал контрапункт, гармонию и искусство фуги. Наконец, после написания двойной фуги, которую он принес на суд учителю, Вайнлих признал, что его ученик — готовый композитор. «Вероятно, вы никогда не будете писать фуг или канонов: то, что вы действительно усвоили, это самостоятельность. Вы стоите теперь на собственных ногах и чувствуете, что, если понадобится, справитесь с какими угодно трудностями».[54] Так закончился период становления юноши-композитора, период осознания им своего призвания. Его действительно ожидают немалые трудности, но он справится с ними. Впереди — начало великого пути.
Глава вторая
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПУТИ (1831 год — август 1839 года)
Лейтмотивом этой главы будет слово «впервые». Наступивший 1831 год можно считать той точкой отсчета, с которой, собственно, и «начинается» Вагнер-композитор. Позади остались годы интуитивного поиска своего пути, несмелые пробы пера, неуверенность и сомнения. После занятий с Теодором Вайнлихом Рихард со всей отчетливостью понял, что ничем другим, кроме сочинения музыки, он заниматься не хочет, а главное, не может. Музыкальное искусство — его призвание, изменив которому, он совершил бы предательство, прежде всего, по отношению к самому себе. Путь определен; теперь главное — найти на этом пути единственную тропинку, предназначенную для него, уйти от подражательства кумирам прошлого и, наконец, самому стать кумиром будущего!