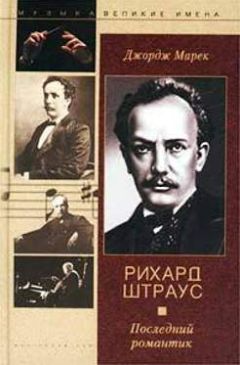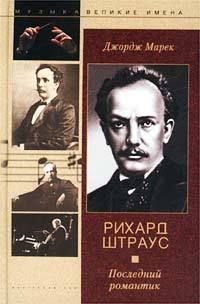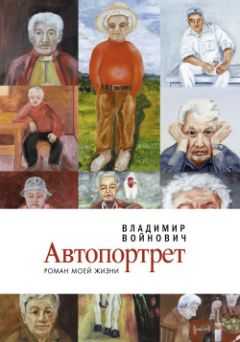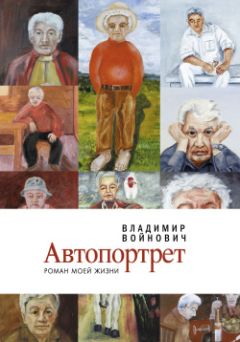Ради такой музыки мы готовы простить ему недостатки, присущие даже его лучшим произведениям: налет вульгарности (по чести говоря, даже больше чем налет), сползающие в приторность мелодии и гармонии, не оправданное содержанием буйство звуков, отдельные узелки полифонии, которые его консервативный отец критиковал еще в начале композиторской карьеры Штрауса. Штраус сам говорил, что полифония — это дар, которым Сатана наградил немцев.
Хотя он обогатил симфоническую музыку — а в оркестровке Штраусу не было равных — и позднее его находки вошли в музыкальный обиход, его стиль почему-то совсем не импонировал молодым композиторам. Однако он послужил источником вдохновения для молодого Бартока: «Из этого тупика меня вывело первое исполнение в Будапеште симфонической поэмы «Так говорил Заратустра». Это произведение, которое местные музыканты встретили с содроганием ужаса, во мне пробудило огромный энтузиазм: словно в свете молнии, я увидел открывшийся передо мной путь. Я тут же бросился изучать партитуры Штрауса и опять принялся сочинять музыку…»[321]
Но потом Барток пошел другим путем. То же самое произошло и с Прокофьевым, хотя русский композитор, без сомнения, изучал партитуры Штрауса. Шёнберг и Берг отреклись от Штрауса, а Стравинский говорил, что все оперы Штрауса нужно «отправить в чистилище». Роберт Крафт в книге «Темы и эпизоды» рассказывает, как негодовал Игорь Стравинский во время представления «Кавалера роз» в Государственной опере в Гамбурге.
Аудитория встретила появление И.С. аплодисментами. Он занял место в первом ряду Государственной оперы за секунду до того, как потушили свет и началось представление «Кавалера роз». Ответив на аплодисменты поклоном, он прошептал мне: «Это они радуются, что я буду вынужден просидеть четыре часа, слушая музыку без синкоп». Но он не высидел эти четыре часа, вернее, не мог сидеть не дергаясь. «Да сколько же можно тянуть этот фальшивый контрапункт?» — простонал он. Затем сказал: «И как они умудряются проглотить эти взбитые сливки?… Похотливость нестерпима даже у Моцарта! В музыке нет ни взлетов, ни падений, кроме отдельных маловажных мест; она слишком монотонна, и Штраус все время надолго задерживает дыхание… Как они прекрасно сочетаются — дурной вкус и энергия… Это — просто оперетта… и если говорят: «Если Рихард — то Вагнер», точно так же можно сказать: «Если Штраус — то Иоганн». Стравинский продолжал поносить оперу и после окончания спектакля: «Может быть, Штраус умеет очаровывать, но он не умеет заставить слушателя глубоко чувствовать. Возможно, причина в том, что он никогда ничему не отдавался полностью: ему на все было наплевать… У меня вдруг возникла страшная мысль. Что, если в чистилище меня заставят слушать Штрауса?»
Штраус верил в двух богов — Вагнера и Моцарта, и это не такие уж плохие божества. Он глубоко понимал Моцарта. «Как бы я хотел сочинять такую же простую музыку, как Моцарт», — говорил он, но знал, что не способен на это. Он любил всю музыку Моцарта, а не только оперы. Особенно его восхищали концерты для фортепиано. Моцарт приносил ему утешение: когда Паулина лежала с воспалением легких, Штраус пришел к Бёму. По лицу его текли слезы. Бём повел его на концерт, где, в частности, исполнялось несколько серенад Моцарта. И, увлеченный музыкой, Штраус забыл о своих страхах.
Но главным его ментором был Вагнер, и Штраус так и не сумел освободиться от его влияния. Хотя он и заявлял, что сбросил с себя путы Байрёйта, на самом деле до конца ему это сделать не удалось. Он поклонялся Вагнеру не только как композитору, но также как теоретику музыки и даже философу. Штраус сказал: «Опера и драма» является, может быть, самой весомой научной книгой в мировой истории». Я несколько раз упоминал его особое отношение к «Тристану». Это чувство родства легко объяснимо: в каком-то смысле «Тристан» — это самое «современное» из произведений Вагнера. Ярко выраженный эротизм этой оперы не мог не оказать влияния на сочинителя «Дон Жуана»; а ее поглощенность темой смерти — к которой обращается Д'Аннунцио — несомненно, была близка автору «Смерти и просветления». Георг Солти вспоминает, что после войны, в 1949 году, он ездил в Гармиш, чтобы поговорить со Штраусом о «Кавалере роз», но состарившегося Штрауса эта тема совсем не интересовала. Он снял с полки партитуру «Тристана» и сказал: «Давайте лучше поговорим об этом».
Рихард Штраус любил Иоганна Штрауса. Да и какой музыкант его не любит? Невольно вспоминается, как однажды на балу Брамс взял у одной дамы веер, написал на нем первые такты «Голубого Дуная» и внизу подписал: «К сожалению, это сочинил не Иоганнес Брамс». Когда Штраус был еще совсем молод, он послал Иоганну Штраусу письмо, в котором выражал свое восхищение его творчеством. И в течение всей своей жизни он обожал дирижировать «Летучей мышью», «Перпетуум-мобиле» и знаменитыми вальсами.
Что касается современных ему композиторов, он часто судил о них неверно — как это вообще присуще творческим людям. (Например, Чайковский терпеть не мог Брамса.) Штраусу нравился Делиус. Его удивляло, что «британский композитор может писать такую приятную музыку». Он плохо понимал Дебюсси, хотя и дирижировал его прелюдом «Послеполуденный отдых фавна». Опера «Пеллиапс и Мелизанда» была выше его понимания. То же можно сказать и о «Воццеке» Берга. Он не мог постичь революционных новаций Шёнберга. Тем не менее, хотя он и считал, что Шёнбергу более пристало бы «расчищать снег на улицах», он голосовал за Шёнберга, когда встал вопрос о том, какому композитору надо выделить субсидию.
Он уважал своего самого знаменитого современника Густава Малера, и Малер отвечал ему тем же. Мы знаем, что Малер пытался добиться, чтобы первая постановка «Саломеи» прошла в Вене, а Штраус многократно дирижировал симфониями Малера, в частности Четвертой, которая ему особенно нравилась. Штраус и Малер часто встречались. Иногда эти встречи были поистине дружескими, но чаще они держались сухо, с отчуждением и даже некоторой подозрительностью. Это были два совершенно противоположных характера. Взгляд Малера был все время устремлен к небесам. Как однажды в момент раздражения заметила его жена, он все время советовался по телефону с Господом Богом. Штраус же был сосредоточен на окружающем его мире. Малер, который придерживался идеалистических, часто наивных взглядов, все время бросался из одной крайности в другую, хотя в целом он скорее был склонен к депрессии, чем к веселости. Ровный по характеру Штраус не мог понять метаний Малера.
Малер считал Штрауса и холодным, и чересчур практичным человеком, который «взирает на все с каким-то равнодушием». В письме своей жене Малер рассказывает о визите к Штраусу. Штраус спал, и Паулина привела Малера в свой будуар (где царил дикий беспорядок) и принялась рассказывать ему местные сплетни, которые вызывали у него лишь неодолимую скуку. Потом она сказала, что Штраус вчера переутомился на репетиции в Лейпциге, вернулся только сегодня днем и ему еще предстоит вечером дирижировать «Сумерками богов». Поэтому, дескать, она обещала его не беспокоить. А потом вдруг воскликнула: «Нет, надо все же разбудить этого лежебоку!» Малер не успел ее задержать — так порывисто она метнулась в комнату Штрауса и громко закричала: «Вставай, к тебе пришел Густав!» Штраус подскочил на диване и улыбнулся своей многострадальной улыбкой. После этого она опять принялась перебирать сплетни.[322]
В другом письме Малер писал жене: «Общаясь со Штраусом, чувствуешь, как тебя обдает холодом. Я предпочел бы быть бедным, но наслаждаться солнцем, чем бродить в сыром тумане… Мое время придет тогда, когда закончится его». Однако в другом письме он сообщал Альме, что ехал в поезде вдвоем со Штраусом и они очень мило беседовали — «как в былые времена». Был еще случай, когда Малер страшно обиделся на Штрауса за то, что тот не пришел на его концерт, хотя был в это время в том же городе и Малер его специально пригласил. После концерта Малер получил от Штрауса записку с извинениями. «Наверное, его не пустила на концерт фрау Паулина», — язвительно предположил Малер.[323]
Однако подобные замечания не следует принимать всерьез. Малер часто болел, и его письма жене окрашены в мрачные тона, а Альма могла и что-то присочинить, рассказывая о своем муже. Однако совершенно очевидно, что Малер и Штраус не чувствовали друг к другу сердечного расположения.
В 1911 году Малер вернулся из Америки в состоянии крайнего изнеможения. Болезнь, которая в конечном итоге свела его в могилу, все обострялась. Так что он приполз в Вену, которую так любил и которая так несправедливо с ним обошлась, только для того, чтобы там умереть 18 мая 1911 года. Через два дня Штраус написал Гофмансталю: «Я глубоко опечален смертью Малера. Вот теперь его признают великим композитором даже и в Вене».[324]
Стравинский не вызывал в нем симпатии, и Штраус не осознавал значения «Весны священной». А Стравинский, как я уже говорил, не выносил музыки Штрауса. В своей автобиографии Стравинский утверждает, что Штраус однажды сказал ему: «Напрасно вы начинаете эту пьесу пианиссимо — публика не станет ее слушать. Надо с самого начала ошеломить их грохотом. После этого они пойдут за вами, и вы можете с ними делать все, что вам угодно».[325] Трудно поверить, чтобы автор «Тиля Уленшпигеля» и «Дон Кихота», которые начинаются очень тихой музыкой, мог дать Стравинскому такой совет.