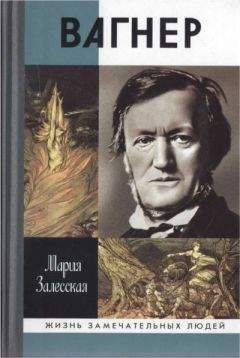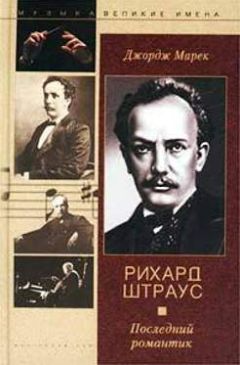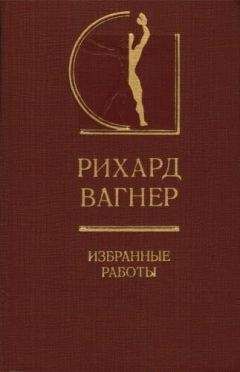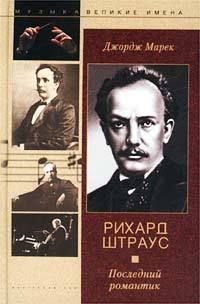Вагнеру, безусловно, льстило преклонение перед ним молодого профессора. В его швейцарском уединении общение с человеком, жаждущим и, что наиболее важно, способным воспринимать дорогие его сердцу идеалы, было подобно глотку свежего воздуха. Но не более того! Не стоит преувеличивать обратного влияния — Ницше на Вагнера — его не было.
Вагнер лишь в какой-то мере близок к идеям Ницше в своих литературных трудах конца 1840—1850-х годов, в которых он выступает ниспровергателем авторитетов, в том числе и религиозных, революционером, призывавшим отречься от «старого» искусства во имя торжества нового и т. д. К моменту знакомства с самим Ницше он давно шел по собственному пути и ничего ницшеанского уже не найти ни в «Кольце нибелунга», ни тем более в «Парсифале» — красноречивом антиподе философии Ницше. Так, например, полнейшим непониманием философского замысла композитора является трактовка образа Зигфрида как «сверхчеловека»; скорее уж к нему можно отнести ницшеанское «человеческое, слишком человеческое». К тому же композиция «Зигфрида» была завершена Вагнером еще в 1856 году, не говоря уже о том, что характеристики этого персонажа в корне не менялись со времен работы над «Юным Зигфридом» и «Смертью Зигфрида», относящейся опять же к 1850-м годам. Следовательно, повторимся, никакого влияния Ницше на творчество Вагнера нет.
При этом в своем духовном одиночестве Вагнеру было необходимо общение с человеком, равным ему по духу. Отсюда и берет начало некая тирания стареющего Вагнера по отношению к значительно более молодому другу.
По иронии судьбы, Вагнер вел себя с Ницше точно так же, как в свое время Людвиг II с самим Вагнером. Он требовал, чтобы Ницше посещал его как можно чаще, совершенно не считаясь с тем, что у того могут быть собственные дела, и ревновал его к любым иным увлечениям, кроме собственной персоны. Если Ницше заставлял себя ждать, Вагнер чувствовал себя забытым, по-детски обижался, а после сурово выговаривал другу. Довольно долгое время Ницше, ослепленный магнетизмом личности Вагнера, не замечал «духовного насилия», но постепенно стал страдать от такой несвободы. В письме другу, Карлу фон Герсдорфу (Gersdorff), от 2 марта 1873 года его растерянность и отчаяние вырываются наружу: «Дай мне знать об этих регулярных претензиях (Вагнера. — М. З.). Я не могу даже представить себе, как вообще возможно во всех самых важных вещах быть по отношению к Вагнеру более верным и преданным, чем я; а если б я смог себе эту еще большую преданность представить, я бы ее немедленно и проявил. Однако в маленьких, малозначащих, побочных вопросах и в определенном, необходимом для меня и носящем почти что гигиенически-„карантинный“ характер воздержании от более частых визитов я должен оставаться свободен — на самом деле именно для того, чтобы сохранить эту верность в высшем смысле. Это, разумеется, никоим образом не может быть между ним и мною высказано, но это ведь чувствуется и способно просто повергнуть в отчаяние, если тянет за собой еще и досаду, недоверие и молчание. В этот раз у меня не было даже тени опасения, что я получу такой резкий выговор, и я опасаюсь, что из-за таких вот случаев стану робеть еще больше, чем до сих пор»[478].
Вместе с тем в процессе развития взаимоотношений Ницше и Вагнера их роли поменялись. Ницше осознал собственную значимость и почувствовал себя на равных с былым кумиром, если не выше его. Теперь ему стало необходимо, чтобы и сам Вагнер начал восхищаться им; по крайней мере, встал бы на его точку зрения по ключевым вопросам философии. А тот, напротив, как казалось Ницше, всё дальше отходил от него. Со своей стороны и сам Вагнер не собирался ни на йоту отступать от собственных выстраданных взглядов. Вот в этом они были действительно похожи — ни тот ни другой не терпел ни малейшего несогласия со своими принципами. Тогда-то и наступил настоящий кризис, усугубившийся полным отходом Ницше от философии Шопенгауэра, которая в свое время сблизила двух друзей.
Повторимся, Ницше во многом повторял путь, по которому Вагнер давно прошел сам и с которого уже свернул. Ницше фатально ошибался, считая, что Вагнер предал его идеалы, — композитор «переболел» ими в значительно более легкой форме и отошел от них задолго до знакомства с философом. Не будем забывать их значительную разницу в возрасте — Ницше действительно представал перед Вагнером воплощением идеалов его молодости. Увлечение Шопенгауэром, начавшееся у Вагнера еще во второй половине 1850-х годов, лишь добавляло иллюзию духовного родства. При этом излишняя эмоциональность, присущая Вагнеру, у Ницше была доведена до предела. В какой-то степени его можно даже назвать карикатурой на Вагнера.
При этом и сам Ницше в свое время преклонялся не перед живым человеком, а перед образом, который создал в своем воображении (это было свойственно и Людвигу II; пожалуй, только Лист объективно оценивал человеческие качества своего друга). Но чем больше он узнавал Вагнера, тем сильнее убеждался в несоответствии этого образа оригиналу. Его экзальтированная бескомпромиссная натура не могла смириться с подобным «обманом». Следовательно, разрыв — причем окончательный и бесповоротный — был неизбежен.
Если скрупулезно заняться поисками момента, когда между преданными друзьями наметилась первая трещина, то придется признать «точкой отсчета» конец 1872 года. Тогда стало уже ясно, что «байройтские планы» перестали быть планами, а превращались в реальность. «Трибшеновская идиллия» осталась позади. В Трибшене Вагнер предстал перед Ницше одиноким и непонятым гением, страдающим от враждебного общества, как и он сам. Ныне перед композитором разворачивалась перспектива всеобщего признания и преклонения. Казалось, его дело одержало решительную победу. Из кумира Ницше Вагнер превратился в кумира толпы. А в представлении Ницше он был обязан оставаться одиноким. В этом смысле показателен один случай. Еще 22 декабря 1870 года Ницше приехал в Трибшен на Рождество. Он привез Вагнеру подарок — офорт Альбрехта Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол». Позднее в своей книге «Рождение трагедии» Ницше написал к этому подарку красноречивый комментарий: «Ум, чувствующий себя одиноким, безнадежно одиноким, не найдет себе лучшего символа, чем „Рыцарь“ Дюрера, который, в сопровождении своей лошади и собаки, следует по пути ужаса, не думая о своих страшных спутниках, не озаренный никакой надеждой. Шопенгауэр был именно рыцарем Дюрера: у него в душе не было никакой надежды, но он стремился к истине. Другого, подобного ему, нет на свете»[479]. В рождественские дни 1870 года Вагнер был уже всецело поглощен «байройтской идеей», постройкой своего театра, но для Ницше оставался олицетворением одинокого дюреровского «Рыцаря». И вот «рыцарь» вместо своей страшной «свиты» в лице Смерти и Дьявола получает в распоряжение настоящий «королевский двор» поклонников и меценатов! Ницше в ужасе отшатнулся. Он не желал «делить» Вагнера ни с кем.
Однако в самый последний момент «байройтское дело» вновь оказалось под угрозой. Денег, собранных добровольными меценатами, катастрофически не хватало. Когда Вагнер вновь очутился на краю пропасти, Ницше почувствовал свою нужность. Он написал «Воззвание к немецкому народу» в поддержку постройки вагнеровского театра, в поддержку вагнеровского искусства, но не нашел понимания даже в среде ближайшего окружения композитора, посчитавшего «Воззвание» «слишком напыщенным», «слишком серьезным», «подобием монашеской проповеди». Ницше был по-настоящему оскорблен. Даже одобрение самого Вагнера уже ничего не могло изменить. Вернувшись в Базель, он замкнулся в себе. Впервые «вагнеровское дело», победы которого он так страстно желал, предстало перед ним в «образе врага».
В дальнейшем пропасть между ними только расширялась. При этом вина за разрыв лежит не на одном Вагнере с его эгоцентризмом и тиранией. Ницше мало чем отличался от старшего друга. В своих сочинениях и письмах Ницше, как и Вагнер, предстает сплошь состоящим из противоречий и сводит личные счеты, доводя собственные обиды до общечеловеческих масштабов.
Так, например, по поводу «Парсифаля», окончательно поставившего крест на отношениях Вагнера и Ницше (лично они не встречались с ноября 1876 года), последний писал художнику и писателю Рейнгарду фон Зейдлицу (Seydlitz) 4 января 1878 года, после получения фрагментов партитуры и недавно вышедшей из печати поэмы: «Вчера ко мне прибыл присланный Вагнером „Парсифаль“. Впечатление от первого прочтения: скорее Лист, чем Вагнер, дух контрреформации. Для меня, слишком привыкшего к греческому, человечески всеобщему (вспомним, что именно такими рисовались идеалы искусства будущего и самому Вагнеру, в частности в его „Искусстве и революции“. — М. З.), всё это чересчур ограничено христианской эпохой; психология сугубо фантастическая; никакой плоти и чересчур много крови (в особенности во время причастия чрезмерная, на мой вкус, наблюдается полнокровность); кроме того, я не люблю истеричных баб… Однако ситуации и их последовательность — разве это не высочайшая поэзия? Разве это не последний вызов музыки?»[480] А вот письмо Ницше своему другу-композитору Генриху Кёзелицу (Köselitz) от 21 января 1887 года: «На днях я впервые услышал вступление к „Парсифалю“… создавал ли Вагнер что-либо лучшее!.. Подобное есть только у Данте и больше нигде. Найдем ли мы хоть у одного живописца такой печальный взор любви, какой нарисовал Вагнер последними акцентами своей увертюры?»[481]