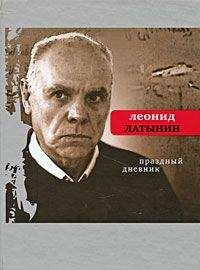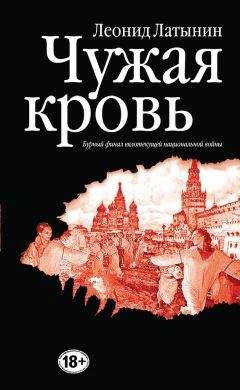ЛЕОНИД ЛАТЫНИН
ГРИМЕР И МУЗА
Копоть нехотя встала на крыло, скользнула за спину, и Гримеру, сквозь просветлевшее и ставшее еле различимым в сером дневном свете пламя, открылся Город, который отсюда, из-под навеса, отделенный от глаз сухим пространством, был непривычен.
С улицы, из дождя, Город выглядел размытее, серее и всегда была видима только часть его. А отсюда, с высоты, через пламя, сухой воздух и дождь, Город чуть трепетал, отделялся от земли и плыл, как будто наконец перестал притворяться и стал таким, каким он был на самом деле.
Сначала появилось тепло около дождя, и на ветру это было приятно, но потом языки огня, нагрев подошвы еще не теплом своим, а только жаром, обожгли ступни, и тут же сразу, без паузы, один из них лизнул в пах. Гример дернулся и вспомнил, что привязан крепко, и дернулся только внутри себя. И еще ощутил, что тело готово привыкнуть к огню, оно выпустило пот, защищаясь от жара. В это время ветер наклонил языки пламени, и они нехотя отошли от тела Гримера. Стало непривычно холодно, но непривычно — это была неправда, это было привычно холодно, но привычно холодно до огня. Гример поежился. А Город, отлепившись от земли, казалось, пытается осуществить смысл своей жизни — подняться на холм, над которым сейчас жил Гример. Но как ни высоко жил он, еще выше был Дом за его спиной, и, наверное, с крыши Дома Гример увидел бы еще большую часть Города, а сейчас он мог видеть только ровные ряды домов, которые полукружьем обступили холм со всех сторон, образуя строгие параллельные ряды. Словно вывернутый наизнанку, но не тронутый временем античный театр, своими ступенями отделившись от земли, карабкался на холм, — никакой суеты, ни один из рядов не торопился опередить другой, и в движении вверх они сохраняли строгость, очередность, стройность, правильность. Отсюда было хорошо видно, как ровно расстояние между рядами, и только однажды широкий пояс разрыва разбивал ряды домов на два разновеликих отряда — так войско двигается, выставив вперед командиров, и только через ощутимое, заметное даже издалека расстояние, достаточное, чтобы не спутать ведущих и остальную массу, шагают солдаты.
И опять другой порыв ветра вернул огонь к телу Гримера. За это время огонь уже вырос и, соскучившись, как по хозяину, языком лизнул Гримера в лицо. Вспыхнули брови, согнулись, побелели и исчезли, оставив белые завитки пепла. Еще чуть выше поднялся ласковый язык, и волосы исчезли, словно юркнули внутрь черепа. Так суслик, на минуту выглянув наружу и услышав приближение врага, прячется в свою нору. Отвратительный запах горящих волос, пожалуй, даже более отвратительный, чем боль.
Гример закрыл глаза. И все равно в них еще остался Город таким, каким Гример видел его впервые отсюда, — ровные полукольца, обнимающие холм. Веки нагрелись, и одно, не выдержав жары, лопнуло, глаз не выдержал света и огня, высох и перестал различать мир. И последнее, что успел им впромельк увидеть Гример, — первый ряд сплющился, вытянулся и выгнулся круто в противоположную сторону, как будто попытался сопротивляться наступающим на него рядам, и вдруг не выдержал и лопнул от напряжения. И все — дальше красная тьма, Гример попытался запрокинуть голову и втиснуть живой глаз внутрь и почувствовал, как огонь ослаб. Может быть, ветер, может быть, сложенное под его ногами барахло, прогорев, обвалилось и огонь отступился, скользнул вниз вслед за прогоревшим барахлом. Гример открыл оставшийся глаз. Конечно, это ему показалось: первый ряд все так же, ровно и правильно, полукольцом душил холм. С этим своим высохшим глазом он проморгал ощущение, что ноги уже начали гореть, обуглившаяся изогнутая подошва, наверное, стиснула ногу, но из-за боли тлеющей ступни боль зажатой ноги он не чувствовал. Только мозг еще мог предположить это, и все же тело, независимо от мозга, еще сопротивлялось жаре своей главной болью — хотя будущие причины уже смиряли Гримера с ней.
Огонь в это время взобрался на какую-то кипу бумаги и, подпрыгнув, кольнул копьем в сердце Гримера. Эта боль, пожалуй, была бы сильной, если б не выгорел глаз и не тлели ноги. Как жалко, что над ним навес, — если б навеса не было, дождь давно бы залил огонь и на этом все кончилось, он готов к испытанию и огнем, но не до такой же степени, пора бы уже и снять Гримера, в конце концов, он уже потерял один глаз и работать будет труднее. Пламя вспыхнуло еще ярче и шире, и Город исчез за его спиной. Вверху загорелся навес. Пламя пробилось наружу. Гример обрадовался, выплюнул солоноватую слюну. Сейчас хлынет дождь. Нет, уже поздно. Струи дождя, не достигая пламени, испарялись и исчезали. Огонь был сильнее воды. Конечно, рано или поздно огонь ослабнет и дождь возьмет свое, потому что огонь — это временно, пока есть чему гореть, как бы он ни был силен, а дождь в этом Городе постоянен. Но Гримеру-то от этого не будет легче: пока осилит дождь и иссякнет огонь, что останется от тела? Во всяком случае, не то, что потом может спуститься с холма и открыть дверь, за которой его ждет Муза. Стало чуть прохладнее, — все-таки, не одолевая огонь, вода сделала его терпимее. Но глаз открыть было рискованно. Кожа на животе стала лопаться, трещины поползли по бедрам, до колен Гример уже не чувствовал боли.
И все же ему повезло. Он успел получить Имя. Ведь он — Гример, а не просто Семьдесят седьмой, каким был еще два года назад. И Муза, его Муза, тоже сегодня не безымянна… И он почувствовал, как живот стал вздуваться, вот уж никогда не думал Гример, что живот так поведет себя в огне. А, нет, это все-таки заблуждение — просто кожа лопнула и все, что было внутри, вывалилось наружу. Подожди, у тебя уже путаются мысли, если б это вывалилось, то нужно было бы открыть один глаз, чтобы подобрать все это, когда связаны руки, ты же можешь видеть, следовательно, помочь. Или нет, когда связаны глаза, ты можешь быть ни в чем не виноватым. Опять не так?
Не так. Это не выход. Успокойся, вспомни. Что не боится огня? Камень? Камень. Тело, видимо, еще подчинялось мысли. Ибо все, что оставалось живого в Гримере, стало камнем. И справедливо — ведь если нет выхода, значит, надо его выдумать. И мысли опять, как споткнувшийся бегун, поднялись и