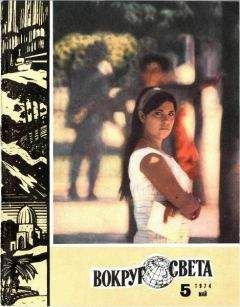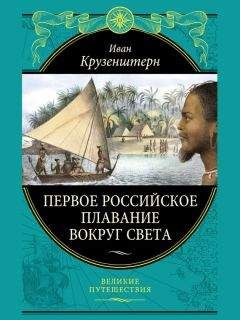— Это хорошо, — сказал старик напоследок, уже укладывая вьюки поперек седла. — Это хорошо, что я тебя встретил. А то бы ты так и не понял, что такое Шуша... Я там родился.
И он ткнул плетью в небо, где стояли стены города.
На Джидыр-Дюзю было безлюдно. Над полем гулял ветер. Он пригибал давно уже позабывшую нетерпение копыт траву и начисто вылизывал гладкие ступени, ведущие к обелиску с короткой мемориальной надписью: «Молла Панах Вагиф, 1717—1797».
Вагиф был старше Шуши на тридцать три года. Он пришел сюда не за почестями, не за богатством, не за славой. Он открыл школу, первую школу в городе, которому шел лишь девятый год. Он учил детей и слагал стихи. О любви, о горах, о птицах, летящих в неведомые земли. Вагиф продолжал учить детей и слагать стихи и тогда, когда владетель города Ибрагим-хан, узнав о мудрости приезжего поэта, сделал его своим визирем. Он оставался поэтом и тогда, когда 85-тысячное войско владыки Ирана Ага-Мухаммед-хана подошло к Шуше. Город и войско хана разделяла пропасть — та самая, которой обрывается Джидыр-Дюзю. Поэт стоял на крепостной стене. К нему подвели с завязанными глазами парламентера. Ультиматум о сдаче кончался стихотворными строками:
Камни, как град, обрушатся на тебя.
Безумец! Ведь стекло от них не спасет.
...По-азербайджански слово «стекло» звучит почти как «Шуша».
На обороте ультиматума Вагиф написал:
Да, как драгоценное стекло, прекрасен мой город.
Но это стекло огранено в несокрушимый камень.
Ага-Мухаммед не смог взять Шушу штурмом. Но другие карабахские села и города были разгромлены, разграблены, сожжены. В стране начался голод, который породил чуму. Владетель Шуши Ибрагим-хан бежит в горы. Ага-Мухаммед вошел в почти обезлюдевшую крепость. Вагиф был брошен в темницу одним из первых. Победитель задумал сложить на Джидыр-Дюзю пирамиду из отрубленных голов шушинцев. Венчать ее должна была голова Вагифа. В ночь перед резней Ага-Мухаммед был убит в своей опочивальне. Его воины — те, кому удалось спастись, — бежали из города, а голова Ага-Мухаммеда была брошена в пыль на Джидыр-Дюзю рядом с телами его приближенных.
Но жизни Вагифу уже оставалось немного. Ибрагим-хан, бежавший из Шуши, не смог вернуться в город. Правителем Шуши стал один из его родственников, ненавидевший своего предшественника. И свою ненависть он направил против его друга Вагифа. Вагиф понимал, что дни его сочтены, но уйти из прекрасной Шуши уже не было сил. В августе 1797 года Вагиф и его сын были казнены на Джидыр-Дюзю.
Жизнь Вагифа не была богата путешествиями. Он учил детей и писал стихи, и, может быть, именно поэтому со стен города на вершине скалы он видел и ощущал весь мир — его радости и горести, любовь и ненависть проходили перед ним здесь, на Джидыр-Дюзю, где он любил следить полет журавлей. Это были его самые любимые птицы...
И Вагифа душа высоко взметена,
Чтобы вечно лететь возле вас, журавли.
Вагиф написал эти строки, как говорят, тоже здесь, на Джидыр-Дюзю. Он сидел в рассветный час с поэтом Видади, когда в высоком небе прошел неровный журавлиный клин. И Вагиф и Видади вслед улетающим птицам сложили в стихи каждый свои слова, родившиеся в тот миг. Говорят, долго с тех пор в дни, когда журавли пролетали над Шушей на юг, собирались на Джидыр-Дюзю поэты Шуши и слагали в стихи каждый свои слова о журавлях.
— И знаешь, — сказал Тофик, — мне иногда кажется, что вся история Шуши началась с Джидыр-Дюзю...
Искусство с того дня, как пришел в Шушу Вагиф, стало доминантой жизни города.
«Закавказье снабжает музыкантами и певцами Шуша, эта блаженная родина поэзии, музыки и песен; она служит консерваторией для всего Закавказья, поставляя ему для каждого сезона и даже месяца новые песни и новые мотивы», — писал известный историк культуры А. Карганов в 1908 году.
Шушинскому мальчику Касуму было 13 лет, когда убили Вагифа. Был ли он учеником великого поэта, сказать трудно, но сам он впоследствии, уже один из известнейших поэтов Востока, имя которого называли рядом с именами Саади и Хафиза, считал себя преемником Учителя. Неотделима от Шуши судьба одной из образованнейших женщин XIX века, Хурашид Бану Натеван. Дочь карабахского хана, после смерти отца правительница Карабаха, Натеван прославилась утончённейшими газелями — «печальными и прекрасными, как закат», вошедшими в сокровищницу мировой поэзии. В Шуше вырос великий Навваб — поэт и художник, астроном и плотник, химик и математик, создавший классический труд о народной азербайджанской музыке. В Шуше родился классик армянской литературы Григор Тер-Ованесян. Шуша одарила Восток великими народными певцами: Гаджи Гуси, за которым приезжали из дальних стран с приглашением на свадьбы и торжества; Абдул-Баги Зулаловым — «певцом любви и красоты», Джаббаром Карягды, которого Есенин, однажды услышав, назвал «пророком музыки Востока».
В Шуше родились народные артисты Азербайджанской ССР певцы Сеид Шушинский и Хан Шушинский, которого Карягды называл «лучшим певцом будущего». Шуша — родина несравненного Бюль-Бюль Мамедова, народного артиста СССР, одного из выдающихся певцов и музыкантов нашего века.
Город, рожденный только как крепость, стал городом театральных представлений и поэтических диспутов, музыкальных вечеров и философских споров. И когда читаешь строгие статистические данные, собранные Академией наук, — в XIX веке в Шуше было 95 поэтов, 38 певцов, 22 музыковеда, 16 живописцев, 18 архитекторов, 5 астрономов — то действительно рисуется Шуша в некой античного аромата дымке, городом пылких юношей и мудрых стариков. Городом, где трудно представить себе душевную скаредность и речи глупцов.
...Подножье памятника Вагифу было выложено гладкими плитами. На плитах стояли массивные деревянные чурбаки. Они казались постаментами, подготовленными под скульптуры. Я сказал это Тофику, скромно гордясь своим образным мышлением. Ни слова не говоря в ответ, Тофик приподнял один «постамент», поставил рядом с другим, сел и приглашающе хлопнул ладонью по соседнему чурбаку.
— Вот что это, — сказал Тофик. — Чтобы вот так, просто так можно было посидеть здесь. Покурить. Поговорить... Вначале мы такие чурбаки поставили там, где был дом Вагифа. Распланировали площадку, камнем выложили, а на камни — вот такие же чурбаки. А их — на дрова. Не поняли. Что делать? Не плакаты же вешать. Думали, думали — надумали. Чурбачки новые поставили и попросили стариков на них посидеть. Покурить. Поговорить...
Потом я видел этих стариков на площадке Вагифа. Спокойные и строгие, они покуривали великой крепости табак из маленьких черных трубок, перебирая четки, как прошедшие свои дни. Тофик подошел к ним. Старики что-то начали говорить Тофику, внимательному, почтительному.
— Все о воде разговоры, — сказал Тофик, когда старики отпустили его.
Вода всегда была средоточием всех проблем города. Город возник как крепость. При закладке его не учитывалось то, что стихийно в те времена всегда ложилось в основу будущей жизни, — ни выгода торговых путей, ни обилие воды, ни старинные традиции обитателей этих мест, ибо на вершине скалы не жил никто.
Но крепость — вопреки, казалось бы, всему — стала богатым торговым городом, на долгие годы столицей всего Карабахского края. Здесь жили хлебники и войлочники, медники и мыловары, часовщики и чеканщики, ковроделы и ювелирных дел мастера. Сюда приходили караваны с товарами всего Востока. На шушинских базарах — многолюдных и обширных — можно было увидеть ширазский табак и хоросанские смушки, текинские ружья и исфаганскую парчу, кашенский шелк и тебризские накидки, багдадские коренья и шамский шелк. В городе было все, чем славны были старые восточные города. В городе не было воды.
Дважды в день — в любую погоду — женщины с огромными кувшинами на плечах спускались головокружительным обрывом к речке Халифалы — в немногочисленных городских колодцах вода была соленой. Первый водопровод длиной в семь верст был построен лишь в 1871 году тщанием благородной Натеван — Тофик говорил, что до сих пор старые шушинцы водопровод Натеван называют «родником ханской дочери». Но этого водопровода не хватало для 30-тысячного города. В 1896 году купец Татевос Тамиров проводит новый, 18-километровый водопровод — со склона горы Сары-Баба.
— Сейчас этот водопровод нам уже мал. — Тофик так и сказал, словно речь шла об одежде. — Новый проводим — на тридцать два километра, с большой воды. И весь город решил, чтоб каждый человек отработал несколько часов на строительстве. И в первый же день старики вышли.
Я был на заседании, где шло уточнение деталей очередного рабочего дня. Разговор был оперативен и четок. Нюансы исторические отсутствовали — слова были хозяйственно-приземленные: машины, объекты, лопаты, гравий, трубы, изоляция, сварка... Я понимал смысл обсуждения через пятое на десятое — не мое это было дело, и никто на меня не обращал внимания. А когда кончился деловой разговор и остались только Тофик и секретарь райкома партии Гашам Новрузович Асланов, я наконец осмелился спросить о Шушинском мемориале — насколько реальна эта идея.