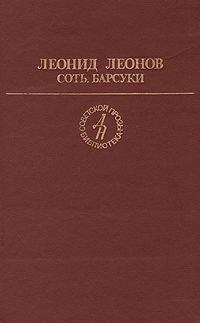Изучить памятники среднеазиатского буддизма было необходимо, но сначала следовало их найти. Древняя Тармита и средневековый Тармыз погибали и снова строились, но не на прежнем месте, а по соседству. Из города, который теперь назывался Термезом, нужно было добраться до обширных пустырей, лежавших в треугольнике между рекой Сурхан и Амударьей. Стороны треугольника тянулись на 8—9 километров, а внутри были развалины, и почти любая могла оказаться сюань-цзяновым монастырем. Паломники от науки бродили в окрестностях Термеза, закладывали неглубокие раскопы — и уезжали, исчерпав средства и сроки, отпущенные на изыскания.
Но в 1928 году историк-искусствовед А. С. Стрелков открыл несколько пещер в склоне пологого холма Кара-тепе на берегу Амударьи. Пещеры были забиты песком и обломками сырцовых кирпичей, упавшими сквозь проломы в сводах. Наверное, возле них или над ними когда-то стояли постройки. Когда-то давно, потому что такие кирпичи, большие, квадратные, из необожженной глины, употребляли здесь задолго до арабского завоевания и не позже VII—VIII веков нашей эры. Сочетание пещер и наземных зданий было в традициях буддийской архитектуры и напоминало пещерные монастыри Восточного Туркестана, скальные храмы Индии.
Одну наземную постройку удалось обнаружить в 1937 году. Тогда же нашли обломки архитектурных украшений, кусочки штукатурки с уцелевшей на .них многоцветной живописью. И четыре монеты кушанских императоров. Эти императоры владели землями Средней Азии, Афганистана и северной Индии между I и III веками нашей эры. Следовательно, буддийские пещеры Кара-тепе существовали лет за четыреста до путешествия Сюань-цзяна.
После войны наступило время комплексных экспедиций, многолюдных, отлично снаряженных. Блестящей вереницей возникали из небытия стенные росписи Варахши и Пенджикента, скульптура Нисы и Топрак-кала, бронза и золото Памира и Семиречья. Никто не вспоминал о скромных находках на Кара-тепе. Проблема «буддийского Ирана»,столь волновавшая некогда наших ученых, казалось, утратила былую привлекательность. Если о ней и говорили, то лишь в связи с вопросом о культуре Кушанского государства, которое само представляло ворох вопросов без ответа. Знали, что официальной религией этого государства был буддизм. Однако на монетах кушан красовались эллинские и среднеазиатско-иранские божества. На другой стороне были отчеканены профили длиннобородых монархов и греческие надписи. Когда их прочли, оказалось, что греческими буквами записан древний титул персидских государей — шаханшах, что значит — царь царей. А по-кушански читалось так: шао шаоно. По-видимому, они говорили не на среднеперсидском, а на каком-то другом языке иранской группы. По-видимому, они пришли не из центральных областей Ирана. Откуда же?
Монеты их встречаются в Риме и восточной Африке, на русской реке Каме, даже в Киеве. Далеко гоняли своих купцов кушан-шахи! Полмира охватывала их торговля. Не потому ли искусство кушанской северо-западной Индии — знаменитые буддийские статуи и рельефы из древней области Гандхара — так удивительно соединило особенности греко-римской и восточной скульптуры?
На эти вопросы, имевшие прямое отношение к истории советской Средней Азии, пытались ответить многие наши исследователи, и не последним в их числе — археолог и кушановед Борис Яковлевич Ставиский. Он раскапывал города, погребенные в лёссовых полях возле Самарканда, и уединенные замки в горах Зеравшанского хребта, проехал не одну сотню километров в погоне за призраком кушанской культуры, каждый отрезок этого пути вел неуклонно на юг, к берегам Амударьи, в Тармиту.
Осенью 1961 года Ставиский впервые поднялся на Кара-тепе. Он увидел горбатую равнину, поросшую бурой травой и кустарником, размытые остатки стен — глиняное кладбище нескольких городов, местность, которую он знал давно и подробно по отчетам экспедиций.
Входы в подземные храмы завалило каменными глыбами, замело песком, затянуло жесткой растительной шкурой. Пещеры искали на поверхности, по впадинам и проломам. Здесь били шурф. На трехметровой глубине шурф раздавался, пропускал археологов в тесную сводчатую щель. Начиналась работа в душных облаках пыли, в мигающем свете фонарей. Почти на ощупь разбирали завалы. В горах щебня и кирпичного крошева попадались разбитые барельефы, керамические черепки, иногда монеты, ломкие, в мохнатой медной зелени. Так начался первый полевой сезон.
Потребовалось три сезона, чтобы расчистить несколько пещер и квадратный двор, глубоко врезанный в склон холма. По его периметру лежали каменные базы колонн, круглые, на квадратных основаниях. Но если колонны поставлены в ряд, значит они поддерживали кровлю. Значит, двор с четырех сторон обрамляли крытые галереи, или айваны. Стволы колонн тесали из дерева, они не могли сохраниться. Сохранилась зато гладкая ярко-красная штукатурка на стенах двора, дорожка на полу из плиток белого известняка и высокий белокаменный порог, на котором тысячу шестьсот лет назад кто-то нарисовал черным контуром два нераскрывшихся лотоса.
За порогом открылся небольшой зал. Из него вынесли тонны грунта для того, чтобы убедиться — в зале ничего нет. Только на полу и на остатках стен следы алой краски, такой же, как на стенах айванов. Во дворе археологи подобрали обломки статуй, крупных, в человеческий рост. Было высказано предположение, что священные статуи когда-то находились в зале, который, наверное, служил часовней у входа в пещерный монастырь, своего рода вспомогательным храмом.
Сюань-цэян писал о монастырях Тармиты. И первые исследователи Кара-тепе считали, что перед ними буддийский пещерный монастырь, как Дуньхуан на краю пустыни Гоби или как Мингой — «Тысяча пещер» — в Кызыле, в северной Кашгарии.
В самом деле, длинные сводчатые коридоры, обломки мисок, кувшинов, множество светильников — дешевых масляных плошек с примятым носиком для фитиля — все наводило на мысль о монашеском суровом быте, о скудной трапезе за общим столом, о ночных молитвах в лампадной полумгле. На светильниках сохранилась копоть — полуторатысячелетняя.
Но минул второй сезон, а на Кара-тепе было найдено только два бесспорно жилых помещения. Два, а должны быть десятки. Что за монастырь без монашеских келий? Может быть, это храм? Но буддийские храмы. Индии, знаменитые чайтья, имели вид продолговатого зала, которые заканчивался полукруглой нишей. Здесь же каменные коридоры изгибались трижды под прямым углом и выводили обратно на поверхность, под галереи двора. Археологи расчистили три таких П-образных пещерных комплекса — и всякий раз оказывалось, что пещеры не просто пробиты «покоем» в песчаниковой толще, но охватывают центральное помещение с единственным выходом, в коридор.
Когда пещерных комплексов стало четыре и рабочие выбрасывали песок и щебень из пятого, Ставиский увидел воочию то, о чем догадывался с начала раскопок, — не монастырь, не храм, а систему храмов, самостоятельных ансамблей с открытыми дворами, часовнями и кельей у входа, где жил сторож. Только строители этих храмов вовсе не следовали образцу индийских чайтья, но повторяли древний среднеазиатско-иранский тип культовой постройки с ее четвероугольным планом, непрерывным обходным коридором по внутренней стороне стен и замкнутым святилищем в центре. Археологи «опередили» Сюань-цзяна на несколько веков и увидели храмы эпохи кушан.
Но этот храмовый комплекс оказался не просто кушанским, буддийским. Он был еще и бактрийским. Ведь кушанская Тармита — один из стариннейших городов Бактрии, области, занимавшей земли современного Афганистана и юга Узбекской и Таджикской республик. Находки на Кара-тепе заявили о своем происхождении с такой определенностью, как если бы на каждой стояло клеймо: «Сделано в Бактрии». Скульптура и красочные орнаменты, сама архитектура храмов Тармиты — всеми корнями в древней местной традиции. Б. Я. Ставиский сопоставляет свои материалы с археологическими находками на обоих берегах Амударьи. По его мнению, говорить сейчас надо не об отдельных шедеврах, открываемых на севере или на юге кушанской Бактрии, но о бактрийской художественной школе в целом, которая вместе с прославленной гандхарской школой участвовала в создании искусства раннего буддизма, оставившего неизгладимый след в истории мировой культуры.
Это искусство долго обходилось без изображения Будды. Его присутствие обозначали символы. Например, колесо — первая его проповедь, начало учения. Женщина на лотосе и слон над нею — рождение Будды. Неоседланная лошадь символизировала Великий уход, когда царевич Гаутама покинул свой дворец, жену, сына и ушел скитаться по индийским дорогам в поисках истины.
Статуи Будды появились в кушанское время, в Гандхаре. Статуи и рельефы. Живописных изображений не находили ни здесь, ни в соседней Бактрии. В истории искусства кушан недоставало важного звена — живописи. И вот обломок ее обнаружен на Кара-тепе, фрагмент стенной росписи — Будда и монахи. Тот же образ, что и в гандхарской скульптуре: выражение отрешенной задумчивости, столь неожиданное на округлом юношеском лице, традиционная улыбка, рассеянная, беглая. Но не будем увлекаться — это не психологический портрет. Это вообще не лицо, а только маска высшего понимания, к которому следует стремиться в любом возрасте. Маска такая же условная, как знаки величия Будды — выступ на темени, третий глаз между бровями, удлиненные мочки ушей, и такая же символическая, как синий фон, белый нимб вокруг его головы, белый ореол, охватывающий всю фигуру.