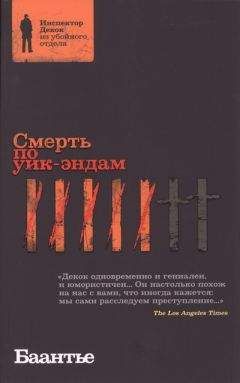императорам, их мольбы были услышаны.
В этот самый момент пришла загорелая крестьянка и сообщила, что обед готов. Староста велел ей подавать еду в лучшей посуде. А я, поразмыслив, спросил:
— Так что же, это поэтому все попрятались в своих домах посреди дня?
— Ах, да нет же, сянь! Это просто наша традиция такая! Большинство ведь уже отобедали, только мы задержались — да видите, как повезло, будто знали. А после обеда все у нас обычно на боковую идут, вот и нет никого.
______________________________________________________________________________________
[1] Праздник Фонарей — завершающий, 15-й день, двухнедельного Новогоднего Фестиваля. В 125-м году Эпохи Волнений, т. е. в 755-м после Я.Л., начало нового года пришлось на 16 февраля (т. е. на 2-е новолуние после Зимнего Солнцестояния), а, значит, Праздник Фонарей прошёл 3 марта. Последняя же неделя 1-го месяца пришлась на период с 7 по 13 марта, т. к. 17-го уже было очередное новолуние.
[2] Отсылка к реальным зданиями — тулоу в провинциях Фуцзянь и Гуандун на юго-востоке Китая.
[3] Т. е. около 6–9 метров
[4] И само слово переводится как «Кабан, дикая свинья».
[5] Чудовищный кабан с длинными клыками и острыми когтями. Он отличался неимоверной силой и свирепостью и в этом отношении превосходил даже быка. Легенды гласили, что он портил посевы, пожирал домашних животных и даже людей.
Староста оставил меня жить в одной из комнат своего огромного круглого дома. В первые дни там было ужасно холодно, пыльно и пахло сыростью. Потом какая-то девица с покрытым веснушками лицом и длинными косами как следует убралась, и стало гораздо лучше. В остальном же приём мне оказали необычайно радушный: в чём бы я ни нуждался, о чём бы ни просил, мне тут же это давали и помогали всем, чем могли. Однако и мне в долгу остаться не позволили.
Едва весть о моём прибытии разнеслась по деревне, как её жители воспряли духом, стали без опаски выходить из своих домов и бродить по деревне, громко разговаривая, смеясь и, занимаясь своими привычными делами. Но стоило какой-нибудь нужде поманить их за околицу, как они тут же приходились ко мне и со смущением звали за собой, дабы я помог им — отогнал духов, создал какие-нибудь защитные круги и следил, чтоб всё было чинно и мирно.
Так мне пришлось просидеть весь день возле их полей, покуда они высаживали свои посевы. Прознавшие об этом дровосеки стали раз в несколько дней звать меня в лес, где, конечно, было приятно прогуляться, но лишь до тех пор, пока прогулку не превратили в обязанность. Но и это ещё было терпимо. Вот когда меня стали звать рыбаки, ловившие рыбу в Цзиньхэ от рассвета и почти до заката, я встревожился. А потом уже и пастухи не давали мне прохода, и закончилось всё тем, что я проводил день за днем, сидя на лугу с ними, и слушая их байки и хохот. При этом ничего необычного за всё это время ни разу не произошло.
Недели через полторы я начал подумывать, что раньше сойду с ума, чем появится что-то, хоть сколько-нибудь достойное моего внимания, и аккурат накануне праздника Чуньфэнь[1] написал письмо, в котором расписывал то, с чем столкнулся в действительности, и спрашивал, как долго мне надобно оставаться в деревне, ежли ничего не изменится. Письмо я запечатал по всем правилам и отложил, дабы отправить его в столицу при первой же возможности. А возможность такая могла появиться в это время года нескоро.
Хотя Юаньталоу располагается на водном пути и из Цзиньгуаньди в Ланьшаньбин, и из Цзыцзина — в Ланьшаньбин, корабли зимой и весной там останавливаются очень редко, обычно при договоренности между путниками, которым туда зачем-то понадобилось, и корабельщиками. И только в летне-осенний период корабли прибывали по несколько раз в неделю, дабы забрать рис, пшеницу, овощи и фрукты — яблочки, груши, сливы, вишню, персики и абрикосы, а ещё масло, грибы и орехи. В остальное же время рассчитывать на джонку из города приходилось не чаще раза в неделю — забирали свежее мясо, яйца, иногда молоко и то, что крестьяне готовили из него. И уж, конечно, никто бы не поплыл в такую глушь в праздники. Всё, что можно было, увезли в день моего прибытия. Но я надеялся, что они приплывут вновь на второй или третьей неделе второго месяца, и праздник вынужден был провести тоже в Юаньталоу среди крестьян, а не среди родных.
От их музыки и песен у любого столичного ценителя музыкального искусства завяли и отвалились бы уши. Мне тоже пришлось нелегко, но приятная погода, невероятно вкусные, хотя и простые блюда из ростков бамбука, молодой зелени и папоротника, рис со свежей речной рыбой и пряностями, и, конечно, чарка изумительного хуанцзю заметно облегчили мои страдания. Во всяком случае спать я улегся со счастливой улыбкой на лице. Однако ж выспаться мне не довелось.
Хотя даже простые сельские жители после праздников с обильным питьем предпочитают хорошенько отоспаться, едва солнце поднялось над верхушками деревьев, меня разбудил староста и испуганным шёпотом попросил скорее одеться и последовать за ним. Неохотно я выполнил его просьбу и ошалел, когда у входа в дом нас встретила целая толпа притихших крестьян. Тогда-то я и понял, что своё письмо в столицу в ближайшее время не отправлю.
Меня в сопровождении всей этой толпы привели на знакомые мне пшеничные поля, где высаженные почти двумя неделями ранее посевы должны были уже подняться и окрепнуть. Но вместо тянущихся к солнцу зеленых побегов я, к своему потрясению, увидел поле, словно изрытое копытами целых стай диких кабанов — земля валялась слипшимися комьями, а растения оказались поломаны и втоптаны в грязь. И так, по словам крестьян, выглядели после минувшей ночи, по крайней мере, несколько му их земли[2].
Гнетущая тишина внезапно прервалась надрывным ревом за моей спиной. Какая-то баба громко рыдала и стенала, приговаривая: «Что с нами всеми теперь станется?! Не померли от мора лишь для того, чтоб помереть от голода!». Я грубо велел ей замолчать и напомнил, что рисовые поля у них пока что целы, да и пшеничные не так уж сильно попортили. И дабы ничего не случилось с ними тоже, нужно поскорее со всем этим разобраться.
После этого я выяснил, чьи поля пострадали, велел им остаться, а остальным разойтись по своим