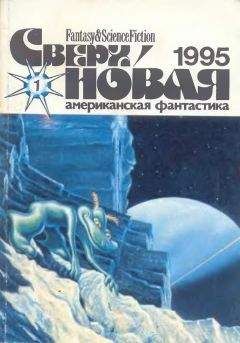Черные холмы неясно вырисовываются на фоне неба. Пошел снег, крохотные снежинки ветер бросает в лицо, словно ледяные песчинки. Ты дрожишь.
Отец стоит на другой стороне дороги, на краю обледеневшего ручья, он поворачивает к тебе свое лицо. Джори.
Да, Па, сэр, отвечаешь ты.
Что ты здесь делаешь, малыш? Здесь так холодно, а ты кашляешь.
Ты переходишь улицу, ковыляя по замерзшей грязи. В доме жарко, отвечаешь ты. Я хотел побыть с тобой.
Отец снимает с себя фланелевую куртку и накидывает тебе на плечи. Подумав с минуту, он говорит, пошли, пройдемся.
Вместе. Его тяжелая рука обнимает тебя за плечи, вы идете к поселку угольщиков. Внизу деревья тесно обступили ручей. На другой стороне выстроились в ряд убогие лачуги, они дрожат под порывами ветра, из труб идет дым, тут же уносимый ветром. Над долиной запах угольной гари.
Если бы я только мог помочь тебе завтра, говоришь ты. Я знаю, спасибо, отвечает отец. Вы некоторое время идете в молчании.
Ручей журчит о чем-то своем у тебя за спиной. При свете дня видно, что его вода черна от угольной пыли, но это днем, а сейчас он серебристо светится в падающем снеге и кажется совершенно прозрачным. Чернота-то никуда не делась. Просто ее не видно.
Мама тоже хочет, чтобы я тебе помог.
Па вздыхает, облачко серого пара от его дыхания на миг повисает в темноте. Мама сама не знает, чего хочет, почти никогда, говорит он. И не тебе судить, чего она хочет, Джори.
Наконец ручей заворачивает в лес. Ты идешь по изъезженной колее, вдоль которой через весь поселок тянутся рельсы. А за ними виднеются неказистые домишки, побитые непогодой, неровно чернеющие за снежным занавесом.
Вместе, ты и Па, вы пересекаете пути и поднимаетесь по ступенькам на крыльцо магазина. Его освещает одна-единственная лампочка, отбрасывающая узкий пучок света на крыльцо и деревянную дорожку. Па опускается на дубовую скамейку в темном углу и закрывает лицо руками. Ты прижимаешься к нему, от него пахнет теплом.
В двух кварталах отсюда, в салоне Джени, вовсю гуляли, до нас доносятся разухабистые крики, музыка, кто-то играет на пианино. Па поднимает голову и говорит: слышишь, Джори? Не суди свою маму.
Хорошо, соглашаешься ты.
Она не из этих мест, говорит Па. Она родилась в Блуфилде, там нет шахт. Ты должен помнить Блуфилд.
Ты помнишь. Это было очень давно, три или даже четыре года назад. Па сказал, что тебе нужен настоящий доктор, а не шарлатан, пользующий угольщиков. Они с мамой скопили денег и как-то весенним утром вы с мамой поехали в Блуфилд, он находится примерно в часе езды на поезде. Но доктор, он лишь покачал головой. Ничем не могу помочь. У мальчика болезнь Дауна. С этим ничего не поделаешь.
Потом мама показала тебе дом, в котором жил дедушка. Большой дом с колоннами, белый-белый, ты хотел войти и увидеть дедушку. Ты никогда прежде не видел его. Но мама сжала губы так, что они побелели и увела тебя. В поезде, увозящем вас обратно в Копперхед, мама плакала. А ты сидел рядом и смотрел, как в окне катятся мимо горы.
Никто, ни тогда, ни потом, ни словом не обмолвился об этой поездке, но мама уже не была такой как прежде.
О, Джори, говорит папа. Горы позвали тебя к себе. Тебе не уйти от них.
Ты не понимаешь, что хочет этим сказать Па, поэтому молчишь в ответ. Ты дрожишь, прислушиваешься к музыке, доносящейся из салона Джени, и смотришь как снег все сильнее и сильнее валит с ночного неба. Он липким серым саваном накрыл весь Копперхед. По деревянной дорожке раздаются приглушенные шаги. Возле магазина возникает долговязая фигура, вы с Па затаились, невидимые в тени, но твой кашель выдает ваше присутствие.
Отец встает, тянет тебя за руку, тянет к свету. Вечер добрый, Гранвилль, говорит отец.
Гранвилль Снидоу прикладывает кончики пальцев к черной шляпе, потом облокачивается на перила крыльца. Справа и слева на поясе у него висит по револьверу с перламутровыми рукоятками. Дома отец называет его сукиным сыном, прихвостнем Болдуин Фелтс, но здесь, на ступеньках лавки, он почему-то дружески улыбается.
Снидоу смеется, у него грубый, неприятный смех. В электрическом свете блестит приколотая к лацкану звезда. Усатый рот растягивается в улыбке — усы у него хороши, неплохая приманка, говорит о них мама, — жесткие, густые, с загнутыми концами. Что это ты, Джек, говорит Снидоу, не заглянул к Джени, надо же хлебнуть для храбрости.
Мне не нужно пить для храбрости, Гранвилль, отвечает отец. Я вообще не пью.
Холодноватое время вы выбрали для прогулки, а?
Мы идем домой. Па крепко стискивает твое плечо и ведет тебя к дороге. Вы переходите ее и идете по проселку к дому.
Эй, Джек! — Кричит вам вдогонку Снидоу. Ты чувствуешь, как Па напрягается. Гранвилль почти невидим в сплошной пелене падающего снега.
Эй, Джек! Зовет Гранвилль. Хорошо, что вы уходите. Я бы не хотел, чтобы твой дурачок простудился.
Отец не отвечает. Он разворачивается и ведет тебя домой. Ваше убогое жилище кажется теплым после холодной ночи. Какое облегчение забраться в постель рядом с Кейдом, воруя его тепло, когда жаркие отсветы печного огня освещают комнату. Лежа в темноте, ты прислушиваешься к бабушкиному храпу, к тому, как раздевается отец, перед тем, как лечь в постель рядом с мамой. В комнате становится совсем тихо и ты засыпаешь.
Ночью ты просыпаешься от собственного кашля. Комната залита лунным светом. Снег перестал, но ты не обращаешь на это внимания. Ты лежишь и смотришь на отца. Он сидит у окна на плетеном стуле, его подштанники будто светятся в лунном свете. Он что-то тихонько мурлычет себе под нос, отец мурлычет и чистит винтовку.
Тебя будит предрассветный холодок, твои нервы напряжены от того, что ты чувствуешь на себе чей-то взгляд: бабушкин. Старуха не спит. Она молча смотрит как ты выбираешься из уютного тепла рядом с Кейдом и вылезаешь на холод. И пока ты одеваешься, бабушка все молчит. Ты предлагаешь ей кусок хлеба, но она лишь качает головой, жуя губами.
Она смотрит на тебя выцветшими глазами и ничего не произносит. Может оттого, что ты тронутый.
Тронутый.
Это слово. С ним связана какая-то тайна, она гремит в твоей голове, словно бусинка в сушеной тыкве. И этот неслышный уху грохот тайны, и немигающий взгляд старухи, жутковатый в сонной комнате, — они гонят тебя на холодный рассвет с недоеденным куском хлеба в руке.
Бесшумно, как призрак, ты проносишься мимо рядов грязных, убогих, полуразвалившихся лачуг. С каждым шагом ноги пробивают корку наста, к лодыжкам липнет серый снег. Ты не можешь избавиться от ощущения, что бабушкин взгляд по-прежнему не отпускает тебя, и это бабушкино слово — тронутый — прочно засело у тебя в мозгу.
Только когда ты оставляешь позади поселок и сворачиваешь к шахтам, неотступный взгляд бабушки перестает тревожить тебя; возвращается голод. Ты грызешь хлеб, но тут вспоминаешь о голодной белке на краю обрыва. В животе становится тепло, ты суешь сухую корку в карман.
Наконец, ты добираешься до своего потайного места, над пятой шахтой. И видишь мертвую белку, окоченевший комочек на краю утеса.
У тебя все плывет перед глазами, голова кружится, кажется, что вот-вот упадешь, провалишься в бездонный колодец памяти. Прошлая зима. Взрыв на третьей шахте. И пятнадцать мертвых шахтеров.
Тебе никогда не забыть их тел, окостеневших и окровавленных, уже начавших разлагаться и смердить, когда их подняли на поверхность. Ты никогда не забудешь этих похорон: стук лопат по смерзшейся земле; голоса шахтеров и их семей несутся ввысь в прощальной песне, холодный одинокий звук, словно завывание ночного ветра в штольне. Смерть реальна, она осязаема, хотя ты и не понимаешь ее.
В памяти всплывают мамины слова: «Могут погибнуть люди. Кейд может погибнуть».
Сегодня.
У тебя в мозгу будто что-то щелкает. Все становится на свои места, как было прежде, головокружение прекратилось. Из твоей груди вырывается рыдание, ты словно во сне делаешь шаг вперед, падаешь на колени, обронив припасенную корку хлеба.
Белка застыла и окоченела. Ее усики заиндевели. Маленькая головка расколота — так раскалываются желуди под ногами отца — над глазом мех слипся от крови. Наверно она упала с обледенелых веток гикори. Тебе этого уже не узнать.
Среди множества горьких и непостижимых утрат это крохотное горе трогает тебя. Ошеломленный чувством потери ты бессознательно прижимаешь к груди крошечный трупик.
Когда ты, наконец, приходишь в себя, неяркий рассвет уже сменился морозным утренним блеском. Холод пробивает тонкое пальтишко. Он высасывает тепло из ног, промокших, когда ты взбирался на гору. Ты стынешь, твое тело немеет, как трупик, который ты до сих пор прижимаешь к груди.
Как белка. Мертвая.
Ты вспоминаешь, как она обнюхивала твои пустые пальцы, когда хлеб был весь съеден. От этого воспоминания в тебе будто разверзается холодная, гулкая пустота. В неподвижности утра ты произносишь одно-единственное слово: НЕТ. Внутри тебя просыпается какая-то сила. Одно только слово рассеяло туман, застилающий твое сознание. Это слово заполнило тебя целиком.