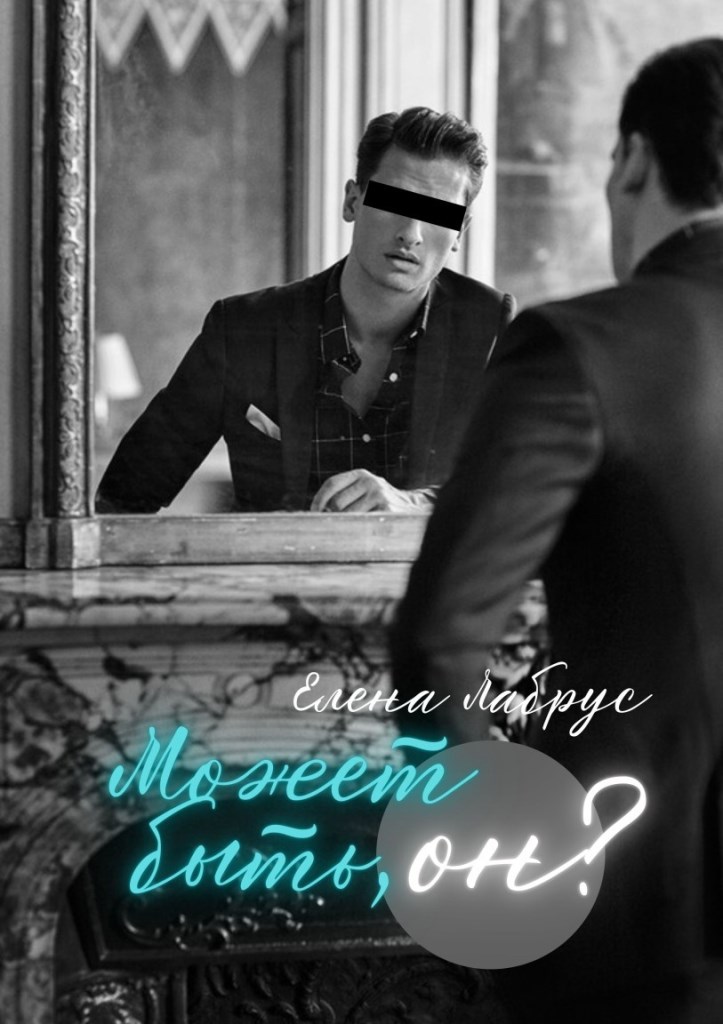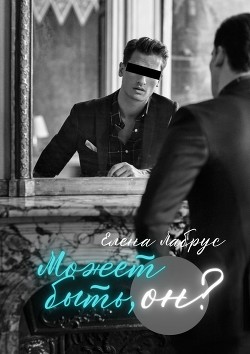В меня словно выстрелили. В грудь. На вылет.
— Настя! — почти выкрикнул он. Отчаянно.
— Нет, — покачал я головой и сделала шаг назад. — Прости. Не приходи больше.
Я отвернулась.
И через какое-то время окошко закрылось.
Стена была такой холодной, когда, схватившись за неё руками, я сползла на пол и зарыдала.
А когда плакать больше не смогла, легла на пол и, подтянув колени к груди, свернулась калачиком: «Мама! Мамочка! Мам!»…
— Пойдём здесь, — показала мама на подворотню.
И сначала посмотрела на небо — дождь пошёл сильнее, — а потом посторонилась, озабоченным взглядом провожая машину Скорой помощи, что, оглушая сиреной и сверкая проблесковыми маячками, проехала в ту самую подворотню.
— Мам, — покачала я головой, — мы не в Сомали, там разберутся без тебя.
— А вдруг не разберутся, — улыбнулась она и позвала меня рукой. — Пошли, всё равно здесь короче.
Я, конечно, ворчала. Но забитый машинами Скорой, Пожарной, Службы спасения и Полиции двор даже меня заставил остановиться.
На верхних этажах дома зиял провал. Обугленная огнём квартира. Выбитые окна.
Я остановилась за оцеплением, а мама, увидев своих, заторопилась к ним.
— Что случилось? Помощь нужна? — на ходу спрашивала она.
Я не слышала, что ей ответили. Я слышала, что говорили рядом.
— Газ что ли взорвался? — тревожно переговаривались между собой женщины.
Одна в ответ пожала плечами. Вторая ответила:
— Да не похоже. Тогда в Красногвардейском газ рванул так балконы обрушились, полдома раскидало. Семь жертв.
— А тут что?
— Говорят, два трупа. А один ещё живой.
— Ну так значит, газ?
— Да не газ, — обернулся мужчина, — взрывное устройство. Самодельное. Говорят, террористы. Те самые, что в торговый центр бомбу заложили. Машина на площади, которая врезалась в толпу и взлетела на воздух — тоже их рук дело.
— Да что вы говорите! — всплеснула руками первая женщина.
— Ну ты посмотри! — всплеснула и вторая. Покачала головой: — А теперь что? Выходит, сами на своей бомбе подорвались?
— А может, в доме хотели заложить, да не успели?
Я протиснулась ближе к ограждающей ленте.
Мама, как всегда собранная, спокойная, внимательная, отдавала распоряжения, и первая бросилась к носилкам, что вывезли из подъезда.
Она выслушала фельдшера, который, рассказывал ей о состоянии больного. Снова посмотрела на небо — дождь разошёлся не на шутку, — и махнула рукой:
— Перчатки! Дайте мне перчатки!
Наверное, ей что-то возразили, но она не слушала, сняла часы, кольцо, сунула в карман куртки, сбросила её кому-то на руки, прямо там на носилках, разорвала на раненом одежду, а потом перчатки ей всё же дали.
— Ни черта вы его не довезёте, — возразила она фельдшеру, пальпируя живот. — Чёрт! Я же говорю, — увернулась она от фонтана крови. — Я пережму, — залезла она рукой в рану. И в ответ на очередные возражения добавила: — Да, так и буду здесь сидеть, — не особо церемонясь, забралась на каталку и села истекающему кровью мужчине на ноги. — А вы поторопитесь. Саша! — крикнула она водителю. — К нам! Давай его к нам!
— Мам! — окликнула я.
Она обернулась.
— Мотылёк, прости. Встретимся дома, хорошо?
— Да, мам, конечно, — шла я, огибая людей, параллельно с каталкой, которую везли в машину.
— Чёрт! Да помогите же кто-нибудь, — выругалась она, когда с носилок упала и безвольно свесилась мужская рука. — Люблю тебя! — снова обернулась ко мне мама.
— И я тебя! — ответила я.
Это был последний раз, когда я её видела — на носилках вместе с раненым мужчиной её подняли в машину Скорой помощи.
Двери захлопнулись.
И я тебя, мам! И я тебя…
Не знаю, сколько я пролежала на том полу.
Мне казалось, что я провалилась в сон. Но только когда меня подняли и отнесли на кровать чьи-то сильные руки, поняла, что всё гораздо хуже — я заболела, меня лихорадило и я бредила.
Я проваливалась в сон или беспамятство, видела то картинки из детства, то ужасы, то сказки — бессвязный калейдоскоп видений и образов, из которого вырывалась только когда мне ставили укол или заставляли пить. С трудом разлепляла глаза и тут же снова их закрывала: его пальцы пахли табаком, его белая майка посерела и промокла от пота в душной камере, он спал рядом с моей кроватью на двух составленных стульях, ставил мне уколы, поил тёплым брусничным морсом, вытирал мокрым полотенцем лоб и никуда не уходил.
Он ушёл, когда впервые за несколько дней температура наконец спала и я уснула глубоко и спокойно.
Я проснулась от чириканья птиц за окном, улыбнулась и открыла глаза.
Мне казалось, прошла вечность. Мне казалось, всё изменилось. Мне казалось, он мне снился.
Но возле кровати стояли его стулья. И я всё ещё была там, где была.
Он вернулся, когда я уже окрепла: стала есть, вставать с кровати, убралась в камере.
Словно ничего не изменилось, только волосы у меня на голове перестали колоться и их даже стало можно пригладить.
— Зачем я тебе? — хрипло выдохнула я в отчаянии, когда, сверля меня глазами Урод очередной раз стоял посреди камеры, возвышаясь надо мной как каменный утёс. — Чего ты хочешь?
Передо мной на столе лежали мои документы и заявление в ЗАГС. Их принёс Урод.
— Хочу, чтобы ты поставила свою подпись, — невозмутимо ответил он.
— Тебе нужна квартира, да? — подняла я к нему лицо. — Давай, я тебе её отдам? Подпишу бумаги — забирай! Забирай всё, что хочешь. Только оставь меня в покое.
Он смотрел на меня, мрачнея, меняясь в лице, играя желваками.
— Думаешь, мне нужна твоя квартира? — наконец, ответил он.
— А что тебе надо? У меня больше ничего нет.
Он покачал головой.
— Ты так ничего и не поняла?
— А что