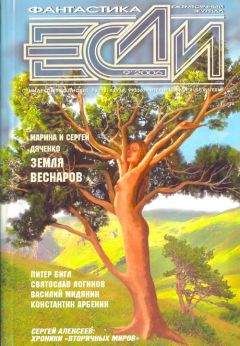В. Р.: Больше всего мне понравилась одна твоя реплика позапрошлым летом, когда после бесплодных попыток тебя убедить, что этого писать не надо — ты ж никогда не слушаешь, если загорелся, — я вот именно так неделю из себя выдавливал, пытался как-то пристойно написать, что ты требовал, что-то совершенно противоестественное, и чего-то даже достиг, очеловечил как-то… Приношу тебе, ты читаешь и сообщаешь мне: «Да, я с самого начала подозревал, что так нельзя — а теперь в этом окончательно убедился».
К. Л.: Помню, как ты выскакивал из дому, бежал по улице, а я за тобой: вернись, я все прощу! Знаешь, меня часто спрашивают: зачем вам писатель, вы же сами пишете. И я им объясняю: это часть работы. Для того, чтобы понять, прожить, это надо создать! Но на пленке создать нельзя, это же немереные деньги будут — снимать, потом выкидывать. А на бумаге можно, тем более именно когда это делает хороший писатель, который каждый вариант в себе проживает… Получается кусок реальности, который мне нужен, с которым я потом работаю, интерпретирую, переосмысливаю.
В. Р.: Так. Вот были «Письма» — фильм, который сильно нашумел. Вот «Лебеди»…
К. Л.: Тоже нашумят.
В. Р.: Да хоть нагремят! Я этому, конечно, обрадуюсь — но, скажу по совести, очень удивлюсь… Был «Посетитель музея», который тоже можно отнести к фантастике.
К. Л.: Но это уж без тебя.
В. Р.: Я сейчас исключительно о тебе.
К. Л.: «Посетитель», да… Ну я все-таки называю его жанрово: религиозная драма.
В. Р.: Это мало кому важно. Я для ван Зайчика в свое время тоже красивый подзаголовок придумал — этнокарнавальный роман. Читателям такие определения до лампочки. Я вот что хочу спросить: почему фантастика? Ведь ты относишься к ней безо всякой симпатии, никогда не увлекался и весьма неуверенно себя чувствуешь, когда речь заходит о том, что действительно называют фантастикой. И персонажи у тебя именно в фантастических коллизиях говорят наименее уверенно и убедительно. Чего же тебе не хватает в реалистическом кино? Почему время от времени тебя из реальности выносит? Я очень хорошо знаю, чего мне не хватает, и хотя меня коллеги, собственно, фантастом уже и не считают, тем не менее мне в реальном мире тесно, пресно, скучно. Нужно создавать свои миры, а уж потом разыгрывать в них свои коллизии и драмы — в твоих собственных, специальных мирах на раскрытие этих коллизий миры сами по себе будут работать. Как сами по себе уже играют, уже значимы Российская империя в «Гравилете», распавшаяся Россия из «Будущего года» или, скажем, Ордусь… А вот чего не хватает тебе?
К. Л.: То, что мы называем в быту для краткости фантастикой — это возможность гораздо более метафорического прочтения, осмысления реальности. Я бы мог назвать этот жанр сюрреалистической драмой, но это не будет понято ни продюсером, ни теми, кто деньги дает, и только насторожит. Узкий круг ценителей скажет: ах, как тонко, а остальные зрители побегут куда подальше. Тут ведь граница очень размытая, Булгаков, в конце концов, тоже фантаст. Жанр философского осмысления реальности — да. Жанр метафорического преувеличения, которое позволяет создать образ гораздо более придуманный, тем самым — изысканный, гораздо более авторский, связанный с какими-то слепками глубин именно твоего сознания, которое, конечно, дает сюрреалистическую картину мира, но в ней есть метафора, которая позволяет осмыслить гораздо больше и гораздо глубже. Вот это, наверное, меня и ведет в жанр, где соединяется авторское кино и поиск верного изображения, потому что чем дальше, тем больше я стараюсь все выразить… ну, не через визуальный ряд, но через образы, скажем так.
В. Р.: Откуда вообще пришла мысль делать фильм именно по «Гадким лебедям»? Я помню, несколько лет назад, когда мы писали в итоге никуда не пошедший сценарий, то в одном из разговоров перебрали произведения Стругацких: что бы, мол, имело смысл снять. И я назвал как самые интересные и кинематографически многообещающие — «Гадких лебедей» и «Улитку на склоне»…
К. Л.: Да нет, все ты не то говоришь. «Гадкие лебеди» в первом варианте возникли в восемьдесят седьмом… Даже нет, в восемьдесят шестом!
В. Р.: А, ты «Тучу» имеешь в виду! То, что для тебя писали сами Стругацкие!
К. Л.: Ну конечно! Это после фестиваля в Мангейме, на волне славы от «Писем» я приехал на семинар по кинофантастике в Репино, мы поговорили с Аркадием Натанычем, с Борисом Натанычем, и я сказал: очень бы хотелось так-то и так-то, предложил концепцию, и был написан сценарий. Но он показался мне не вполне созвучным тому, что я искал, и как-то все отошло, а потом время ушло… А сейчас я вернулся к этой идее — чуть ли не двадцать лет проскочило, да? — в другом понимании. Потому что вот сейчас я четко увидел кино и понял, каким оно должно быть. Вне зависимости от деталей, чуть влево, чуть вправо, больше диалогов, меньше диалогов, но я увидел кино. Оно, конечно, ничего общего не имеет с тем замыслом, который был тогда.
В. Р.: Борис Натанович на семинаре нашем часто говорит: «А вот киношники, когда у них что-то не складывается, всегда спрашивают себя: про что кино? Стоит на этот вопрос себе ответить, все остальное становится предельно ясным». Когда ты мне предложил заняться сценарием по «Гадким лебедям», и мы, помню, с первым вариантом сценария ездили к Борису Натановичу, и он, прочитавши, задумчиво сказал: «Что ж, мы хотели совсем не этого, но так тоже можно», и дал нам официальное разрешение работать с романом дальше — в ту пору я очень точно знал, про что это кино для меня. Во-первых, это попытка подстелить под фильм по Стругацким дополнительный смысловой слой из самих же Стругацких. Я знал, что тебе это не очень интересно, но подозревал, что ты этого и не заметишь. Фильму как таковому это совершенно не мешало бы, но тем зрителям, что хорошо помнят тексты Стругацких, доставило бы добавочную радость. В итоге моя вязь уцелела лишь фрагментами. Ташлинск — из «Отягощенных злом», а там ведь тоже тема воспитания и конфликт поколений. Геннадий Комов из светлого мира Полудня — сопредседатель комиссии по Ташлинску от России… Жаль, мало от Комова осталось. Фраза, которую говорит один из ребят Баневу: «Мы знаем, что этот вопрос не имеет ответа — мы хотим знать, как вы на него ответите». Это же версия фразы из «Понедельника»: «Мы знаем, что эта задача не имеет решения — мы хотим знать, как ее решать». Она уцелела, но там было много других того же уровня… Не пригодились. Из варианта в вариант я заставлял Иру-Ирму в финальной сцене тихонько читать стихи из концовки «Далекой Радуги». Не привлекло тебя, ты видел иначе. Уцелели стихи Пастернака о будущем, взятые Стругацкими эпиграфом к «Улитке» — но они, на мой-то взгляд, повисают в воздухе без предшествовавших разговоров, в которых так или иначе затрагивалась тема будущего… Хотя бы где, помнишь, они плывут на катере через затопленные предместья, и Банев спрашивает Диану: «А вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит с настоящим, когда наступает будущее?» Это же Одержание из «Улитки»! В фильме часть пунктирного текста ушла…
К. Л.: Текстовик хренов.
В. Р.: Мыслить надо не образами, а головой.
К. Л.: Рыбаков!
В. Р.: Ага… Но самым существенным для меня была полемика по главной теме. Ведь идея отъятия детей от родителей и их правильного воспитания некими профессиональными учителями — это одна из основных идей ранних утопий, и через европейских фантастов, и через коммунизм — к Ефремову и к ранним Стругацким… Ты, конечно, не помнишь, а например, в той же «Далекой Радуге»: «Ребенку не нужен хороший отец, ребенку нужен хороший учитель». И в «Лебедях» Стругацкие отдали ей дань. Но… Вот цитата… сейчас… вот: «Семья, сучий потрох, гнойный аппендицит… Твой отец инженер или работяга — злой, худой, неудачливый, время от времени надирается. А то и вовсе никакого папочки в семье, мать — в облезлой шубейке. Мать всегда жалко, к отцу никакого уважения. Он — никто; когда пьян, ругается с телевизором. Вонючий братец (вариант: вонючая бабка) — после него противно войти в туалет». Кажется, все это прямое продолжение праведно гневных мыслей Банева о городе-клоповнике, из которого дети, молодцы, ушли к мокрецам. Или: «Вечные: «Выключи свою музыку!», «Убери эту порнографию со стены!» и прочие стенания…» Буквально в одну строку ложится с борьбой Ирмы из «Лебедей» за свою свободу и независимость под лозунгом «Прошу никогда не закрывать окно». А сразу после описания Стругацкими школы со стенами, крашенными веселенькой казематной зеленью, и тягостными допросами у доски естественнейшим образом вписывается: «Сейчас детей гноят в скучных школах, снабжая их мозги и память насильно на хер не нужной никому пылью». Да, но это уже не великие Стругацкие с их поразительной добротой и мудростью, а канонические тексты нацболов, и продолжается этот пассаж о школе так: «Образование станет коротким и будет иным. Мальчиков и девочек будут учить стрелять из гранатометов и понимать всю мерзость московских спальных районов». Парадоксальным образом бесчисленные гуманисты-утописты и вожди всевозможных югендов, находясь на противоположных краях спектра идей европейской цивилизации по детскому вопросу оказались в одном строю. И общими усилиями сделали материнской цивилизации подарок, который называется так: дети ничего не должны родителям. Либерте! Эгалите! Долой предрассудки, даешь царство разума! Рацио! Попользовался, пока был мал и нуждался в кормильце и защитнике, а чуть подрос — и на помойку родителей, они же ничего не понимают и все время мешают, они все неумехи и неудачники, не то что мы, молодые, которые понимают абсолютно все и у которых впереди одни удачи! Но тогда оказалось, что и родители ничего не должны детям. Можно выбрасывать младенцев в мусорные бачки, можно их продавать… А где достатка и культурки побольше, там и вообще все просто: можно вовсе не рожать! Итог: мир чисто демографически захватывают якобы косные и реакционные, иррациональные цивилизации, где люди рожают себе не обузу, а помощников, не могильщиков, а опору под старость. Где люди не боятся собственных детей. Вот идеальность мокрецового воспитания мне и хотелось подвергнуть сомнению… Именно в семье мы учимся любить тех, кто нам вроде бы мешает, и прощать их за то, что они не такие, как нам бы хотелось. В нашем мире это неоценимый опыт на дальнейшую жизнь. Я мечтал показать, что и Банев, и его дочь порознь сами ощущают некую неполноту себя. Им чего-то не хватает, откуда-то у них чувство ничем не восполнимой пустоты, и становятся людьми они только после того, как становятся вместе. Поэтому он вдруг и рвется ее спасать. Поэтому, скажем, я там втюхивал в ремарки описание стены в квартире, исписанной формулами: корень квадратный из «минус отец» — мнимые величины… Девочка пытается в той системе представлений, которую дают мокрецы, решить проблему разрыва родителей — и не может. Поэтому, когда они там в подвале прощаются с жизнью, Ира, после ее постоянного высокомерного «ты», вдруг говорит Баневу: «Папа»… Потребность в чем-то душевном, априорно теплом, не компенсируется никакими успехами и никакими чудесами. Вот про это для меня было то, что я писал. А про что кино было для тебя?